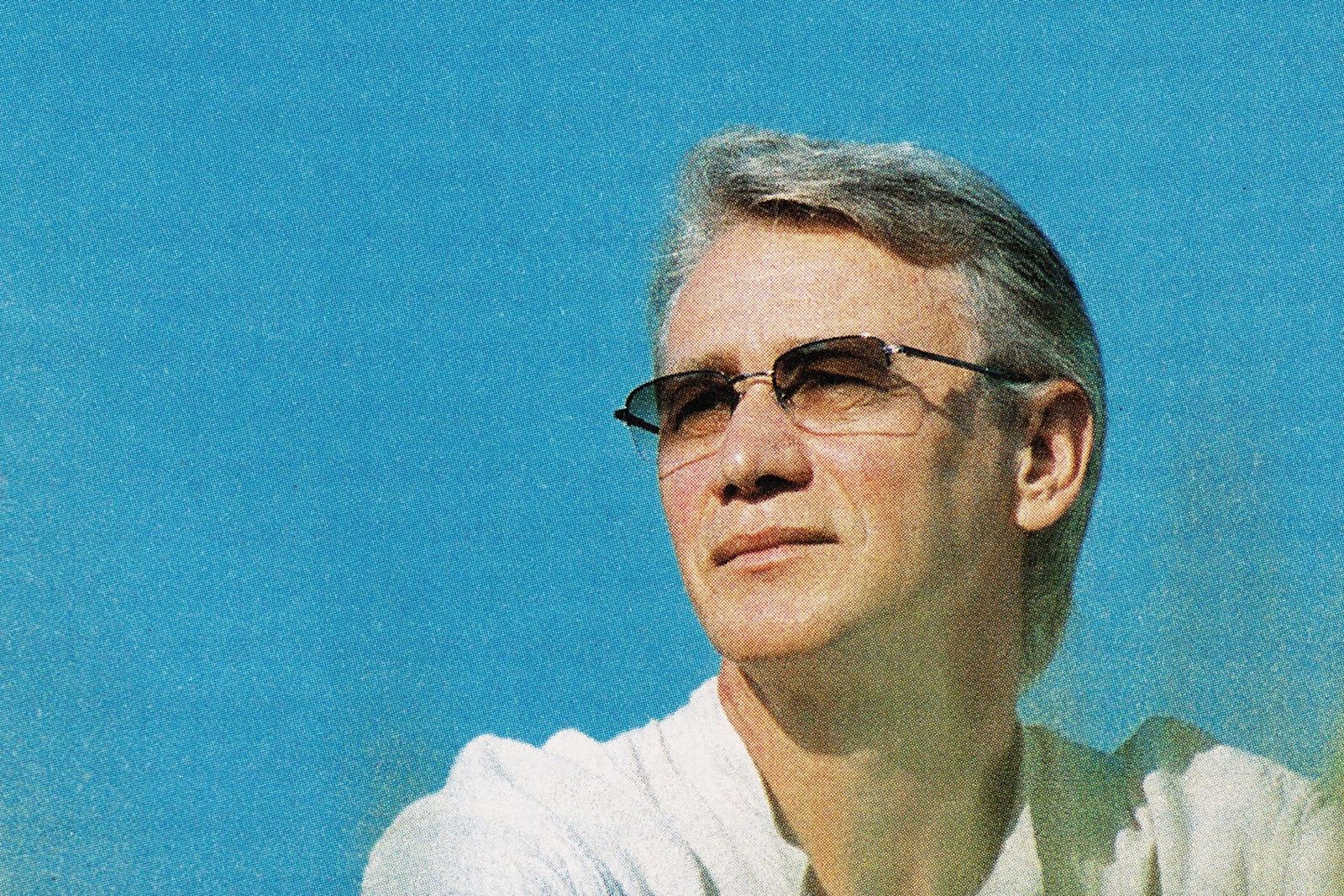«Дискурс» взял интервью у писателя, драматурга и сценариста Алексея Слаповского. Изначально задавшись вопросом, отчего же у нас так мало хорошего отечественного кино, мы узнали, почему русским претит коллективизм, как пишет сценарист, а как прозаик, чем сериал отличается от минисериала и ситкома, что делает продюсер, а также почему много денег всегда хорошо, а смирение паче гордости уныло и бесперспективно.
— Леша, есть мнение, что бардак в кинематографе привлекателен, что это — примета истинно творческого подхода к делу.
Ну да, а за рубежом все как-то сухо, без огонька. Знаешь, я в этом варюсь уже давно, и даже был короткий период, лет десять назад, когда я сотрудничал с Нахапетовым в Голливуде. Я успел посмотреть, как там все делается, сам процесс: как проходит кастинг, как к этому кастингу готовятся, какие люди приносят с собой портфолио. Эти мелочи мне многое сказали. Так по детали какого-то механизма, тому, как она отполирована, насколько пригнана к чему-то, чего ты даже еще не понял, ты видишь, что все ладненько и не скрипит. Процесс у них отлажен, нет этого милого бардака. На самом-то деле, я думаю: то, что имеет право быть стихийным (внутренний творческий процесс), оно и там есть. С него все начинается. Но дальше-то должно быть производство.
— То есть две эти вещи надо развести: сначала человек стихийно творит, а уж потом происходит работа на площадке?
Конечно. Эти процессы один в другой вдвигаются потихоньку. Я сценарист. Я, собственно, и есть начало процесса. Я ведь редко работаю по заданию продюсера, большинство сценариев я придумал сам. В голове шевелится мысль, возникает какой-то сюжет, пишешь заявку, продюсеры ее рассматривают, а дальше творческий процесс, в котором ты остаешься главным, продолжается. Но с этого этапа, этапа перехода от заявки к сценарному плану (так называемому поэпизоднику), идет уже коллективная работа. В чем ее коренное отличие от, например, работы над пьесами и уж тем более над прозой? Когда работаешь над пьесами, есть внешние ограничители, которые ты заранее для себя выставляешь: пьеса не должна идти больше трех часов, желательно два — два с половиной, плюс более строгие, чем в прозе, рамки. А в прозе — в определенном смысле что хочу, то и ворочу. В кинопроцессе, телевизионном процессе коллективная работа начинается сразу. В этом слове — коллективная, — мне кажется, коренное отличие, может, даже на ментальном уровне работы киношников там, за рубежом (в Америке в первую очередь), и нашей работы. Не я первый заметил: все, что человек способен выдумать единолично, сам, у русских получается замечательно. Русские умеют делать уникальные вещи: написать штучный роман, изобрести, доказать что-то, что никто не мог, как известный наш Перельман, подковать блоху — только дай! Вот это наше, это мы умеем. Как что-то надо поставить на поток, то есть включить большое количество людей, делающих однообразные, типовые и качественные вещи, у нас начинаются проблемы.
— Подожди, но ведь в былые времена у нас что-то получалось. Было советские кино, всякое, конечно, но очень много хорошего...
Небольшой экскурс, без которого не обойтись. В советское время (рассуждаю как человек пишущий, не политик или экономист) существовало три отрасли, очень прилично развитые. Оборонка. Лучшие умы, лучшие средства — все туда, поэтому оборонная промышленность была на высоком уровне, по нашим силам, конечно. Жилищное строительство (я имею в виду масштабы, качество было дрянь). Деньги, которые получал Советский союз от той же нефти, не только в оборонку пускались. Партию и правительство заботило, что главная проблема для советского народа — жилье. Не потому что они так любили советский народ, нет. За этим стояло массовое переселение сел в города, это требовало притока рабочих сил в связи с наращиванием производственных мощностей — да, в оборонной промышленности! Ну и не только. Третья область — я называю мощные, в которых крутились очумительные деньги, — это кино.
— «Важнейшим из искусств для нас является кино»?
Да! Кино было востребовано. Снималось большое количество фильмов, как в любой крупной стране, в том числе клятой Америке. Сотни фильмов, сотни названий каждый год! Это была, конечно, индустрия. Билетики в кино, как мы помним, стоили от 20 копеек до 70, если две серии, а появились широкоформатные кинотеатры, так и рубль. Широкоформатный вмещал до тысячи зрителей. Чтобы понять: за сеанс это тысяча рублей, а автомобиль тогда стоил 5 тысяч. Пять раз забили зал — директор кинотеатра купил машину (шучу, они сидели на зарплате, конечно). Были так называемые всесоюзные просмотры, было идеологически выверенное кино, но советская власть показывала свою не то чтобы слабину, а лояльность. Видя, что индустрия дает деньги, живые, хорошие, она позволяла пошалить. Помимо фильмов сугубо патриотичных и таких, которые сегодня назвали бы коммерческими (комедий, драм для широкого потребителя), позволяли снимать и авторское кино. Был у нас Тарковский, был и Абдрашитов.
— Но ведь бывало, фильмы снимались, а их не пропускали?
Было. И фильмы лежали годами и десятилетиями у самых известных режиссеров. С 67 года лежал фильм «Комиссар», чуть ли не до конца 80-х. Клали на полку, было. Клали-то клали, но не все. Тарковский снимал, Сокуров начал снимать в советское время, Герман снимал. Когда у нас была политика «Пусть цветут сто цветов», естественно, эти цветы там стригли, здесь мяли, но они были. Есть индустрия, следовательно, внутри этой индустрии растут профессиональные кадры, используются технологии (это выгодно), развиваются собственные технологии. Есть индустрия, есть контент, есть ассортимент, и на этом фоне позволялось режиссерам экспериментировать за государственный счет, позволялось шалить, допускались люфты в творческих поисках. Я не пою дифирамбы советскому кино, но если посмотреть на такие сайты, как «КиноПоиск», можно наткнуться на разные рейтинги — и простых зрителей, и критиков. Я посмотрел «Сотню лучших российских фильмов». Вот, что попало из новейших времен. Два фильма Рогожкина — «Особенности национальной охоты» и «Кукушка», «Утомленные солнцем» (1995), «Брат» (1997), «Страна глухих» (1998), это у критиков, конечно. И с 2000-х годов в эту сотню не попало ничего. У простых зрителей это фильмы 60-80-х годов: «Гараж», «Мимино», «Остановился поезд», Тарковский, фильмы Шукшина, Муратовой, Элема Климова. Я могу перечислять бесконечно. Говорит это о том, что и критики, и зрители не находят фильмов последних десятилетий, достойных попасть в эту сотню — в первую очередь — по художественным признакам. Не по смелости своей, а по художественным признакам.
— Почему так получается?
А у меня есть ответ. Была индустрия — было количество, а оно, как помним, имеет шанс перейти в качество. И переходило. Когда много фильмов, когда на съемочных площадках вырастают режиссеры, актеры, осветители, все, включая тех, кто тележку катает с кинокамерой, — шансы, что может получиться качественное кино, резко возрастают. Потом пошли 90-е и вал совершенно безобразного кино про каких-то бандюков. Немногие фильмы, которые мы помним из той поры, это «Маленькая Вера», «Интердевочка», «Авария, дочь мента», «Воры в законе». В кино ломанулись — боже ж ты мой! У меня столько знакомых, которые и снимались, и сами снимали, и театральные режиссеры — все бросились снимать. Потом стало налаживаться. Но то кризис 97-го, то потом еще один кризис. Кино с 90-х годов в непреходящем кризисе. Денег нет, инвесторы не идут, и не пойдут в то, что неприбыльно. Нет индустрии — нет денег, нет денег — нет индустрии. Нет достаточного количества, которое родило бы качество. Поэтому получается, что учат на пальцах. Во ВГИКе работают, режиссеров выпускают, снимают, конечно, какие-то короткометражечки, но важно-то участвовать в процессе, в серьезном процессе. Поэтому у нас кино мало, и оно резко разделилось на «коммерческое» и «фестивальное» (оно же авторское). Либо продюсеры через Минкульт, Роскино, Госфильмофонд и прочее выбивают субсидии, либо ищут спонсоров, либо и то, и другое. Убеждая инвесторов и тот же Минкульт, что их кино может стать прибыльным. Есть единицы действительно прибыльных проектов. Это бекмакбетовские «Елки», «Ирония судьбы. Продолжение», в котором я принимал участие, печать коммерции на нем лежит, и мне очень заметна. Коммерческое кино, кроме как денег заработать, других целей и не преследует. Но, к сожалению, это тоже не индустрия, это удачные частные лавочки, скажем так. В них тратят заработанные деньги, чтобы еще какой-нибудь фильм снять. Нет ни инвесторов, ни серьезного финансирования государством. А сейчас с небезызвестным Мединским политика стала достаточно жесткой, в сущности, это цензура, а не политика. В нашем веселье, таком милом со стороны, ничего веселого нет. Потому что нет производства, нет результата. Кроме довольно приличных в художественном отношении фестивальных авторских фильмов, которые подтверждают постулат о том, что у нас, если что и получается, так что-то отдельное. Есть автор — появляется кино. Наши фильмы, попадающие на фестивали, как-то звучат, поддерживают репутацию отечественного кино. Есть режиссеры: есть Хомерики, у Серебренникова получился фильм «Изображая жертву» (на мой взгляд, благодаря очень оригинальному сценарию братьев Пресняковых), Есть Герман-младший, который мне не нравится тотально весь, но он интересен. У нас есть Вырыпаев («Эйфория»), есть Сигарев («Волчок», жесткий, многим он не нравится, мне нравится), есть Федорченко («Небесные жены луговых мари», «Овсянки»), есть Вера Сторожева, есть Звягинцев, есть Алексей Учитель, тяготеющий к авторскому кино, был Балабанов, есть Сокуров, есть Муратова до сих пор. Если мы помним какие-то имена, мы помним людей, делающих авторское кино. Вот спроси сейчас на улице, кто снял неплохой в общем фильм «Каникулы строгого режима», кто режиссер — не вспомнит никто. Честно говоря, и я не помню. А почему? Потому что у нас появилось продюсерское еще кино. Когда не важно, кто режиссер, когда личность стирается, стушевывается до того, что никто ее не помнит — не знает, она не важна. Все, как при создании ливерной колбасы, когда шеф-повар не нужен, нужны грамотные технологи, вот и все. А они более или менее грамотные. Поэтому мы помним, что Бекмамбетов продюсер, в его компании выпущены «Елки», четыре штуки, но вот даже я, не в обиду режиссерам, не помню, кто какой фильм снял. А они были сняты разными режиссерами, и в одном из них, в последнем, я даже закадровый текст писал.
— Мельчают режиссеры...
А мне обидно, когда говорят: нет у нас хороших сценаристов, нет хороших режиссеров. Да, их у нас мало, но когда аквариум на ведро, то карасей там выживет ну никак не больше десяти. А когда аквариум как бассейн, там может и акула завестись. Какой-нибудь Кэмерон задолбит сумасшедший блокбастер и — «А!», все в отпаде. Объемы, объемы! Не бывает такого, чтоб миллион золотых рыбок в ведерном аквариуме. Ничего милого нет, конечно, в нашем бардаке, когда мало платят сценаристам, стараются поменьше заплатить актерам, финансируют очень плохо, а будут в ближайшем времени еще хуже. Когда экономия на всем. Не бывает такого, чтобы просто собрались актеры, сыграли, и получилось хорошее кино. Я, когда телевизор включаю, мне достаточно 30 секунд, чтобы понять — дешевый сериал (в смысле производства) или дорогой. Даже не по тому, как актеры играют. Свет, звук. В хорошем кино тени очень грамотно выстраиваются (тень от фигуры лежит там, где надо, если она вообще нужна). Потому что не три дрянных светильника, которые дают грязную тень на заднем фоне, а 33, которые уж если и дадут тень, то только такую, какую надо. И звук. Если я вижу, что звук не переписали, что потом актеры не переозвучили, звук грязный, стыдно мне становится. Я человек творческий, а какой вопрос ни возьму, касающийся нашего кино, осознаю с сожалением, что все упирается, да, в деньги, да, в финансирование. Потому что это технологичный вид искусства. Всякая технология требует денег. И поэтому, когда меня упрекают, ты все к одному сводишь, у тебя как бы и человеческого фактора нет, я говорю: есть, ну конечно, есть. Но, ребята, вот представьте себе завод, называется ВАЗ. Завелось там бог знает с какой плесени три гениальных инженера, четыре гениальных технолога, и они говорят: «Мы такое придумали!» — и бегут к начальнику цеха. «Если засунуть это под капот!..» Он открывает капот: «Куда?». И ВАЗ будет выпускать Жигули, сколько бы там ни завелось гениальных людей. Иногда в этих мастерских, может, и делают что-то гениальное, о чем мы даже и не знаем. (Это то, что я сравниваю с неожиданным хорошим кино, которое вдруг у нас получается.) Что называется, на коленке. Да! Но это, скорее всего, исключение. А почему у нас не может быть хорошего кино, так это по той же причине, почему ВАЗ выпускает Жигули. Вот к каким банальным вещам все сводится. Есть умные люди, есть талантливые люди, есть такие, что самоуком, в домашних условиях создадут конструкцию не хуже Феррари. Но это ж надо еще и воплотить. Вот тут и начинаются все придумки. «Стихи рождаются случайно, и чем случайней, тем верней» — так то ж стихи, им легче, они связаны только с головой одного человека. Иногда такое впечатление, что у нас и фильмы тоже рождаются случайно. И это неправильно. Потому что в кино, если говорить об индустрии, успех программируем. Он должен быть запланирован. И в большинстве случаев чем больше бюджет, тем больше доход.
— Давай теперь поговорим о сериалах.
Начнем с того, что на наших глазах прошло несколько технологических революций в кино. То есть — на их глазах, зарубежных. Мы не на уровне технологий. Когда у них уже в начале 90-х появился первый «Терминатор», а до «Терминатора» были «Звездные войны», нам это все не снилось. Ну сняли мы «Экипаж» — это исключение, а вообще, в том, что касается кино как зрелища, мы не то чтоб отставали, а, понимая, что тут мы не конкуренты, шли своим путем, этот путь мне нравился. Мы снимали кино про людей. Комедии, драмы, построенные на интересном сюжете, на интересном конфликте, характерах, хорошей игре актеров, а не на каких-то технических прибамбасах. Наступила эпоха, когда большое кино в Америке окончательно и бесповоротно стало зрелищем. И только зрелищем. А кино про людей, которое и в Америке было («День сурка», «Почтальон звонит только дважды», «Пролетая над гнездом кукушки»), перешло с экранов кинотеатров (и уже довольно давно) на экраны телевизоров. И потом в Интернет. Появился сериальный бум — и не только там, потому что тенденции в мировом кино схожие. У нас тоже. Я, может быть, застал самое начало. Это рубеж 2000-х годов, когда и денег не жалели, и актеров снимали отборных. На мой взгляд, золотой период. Тогда — просто свои сериалы я лучше помню — появилась «Остановка по требованию», которую зрители полюбили, появился «Участок» с неповторимым, совершенно звездным составом, с атмосферой. Было ощущение, что это и индустрией попахивает (не жалели средств по-хорошему). И творчеством. И когда это соединяется, то и получаются вещи. Экранизации были неплохие, «Идиот», например. Еще у нас могут делать неплохие минисериалы так называемые, то есть не мыло сезонами, а что-то типа «Ликвидации», «Диверсанта». Качественные. Легко заметить, они часто ретро, современных минисериалов у нас маловато. У меня у самого есть два четырехсерийника — «Я — не я», экранизация моего романа, и «Синдром Феникса», тоже экранизация. Здесь мы, в общем-то, можем взять реванш, хотя бы по эстетике, по художественным качествам. Но там опять, как только это перешло в телевизор, так стало сумасшедшей индустрией, и мы не дотягиваем, конечно же. Опять же — качество. Потому что определенное количество съемочных дней, обеспечение техническими средствами — тут много всего. Если дают задание 12-серийный фильм снять так, чтоб каждую серию за четыре дня, — ну что из этого получится? Сейчас и кризис к тому же, платят либо те же деньги, которые подешевели, либо меньше.
— А почему в большинстве своем наши сериалы такие однообразные?
И снова мы упираемся в индустрию, ну и цензуру, конечно. Которая называется так: политика канала. Многие оригинальные сериалы в Америке появлялись сначала на кабельных каналах, их много, они независимы. Независимый — слово ключевое. Там не боятся экспериментировать. У нас таких каналов нет. Представь, приду я на один из наших центральных каналов (а у нас их два с половиной) и скажу: «Знаете, у меня есть задумка истории. Человек заболел раком. Он умирает и хочет оставить семью с деньгами. Он не находит другого выхода, кроме как варить наркотик, амфетамин. Ну и там куча приключений и т. д.». Я представляю, какими глазами на меня посмотрят продюсеры. Это я пересказал сюжет одного из самых успешных, очень хорошо сделанных сериалов «Во все тяжкие», который шел пять сезонов. А у нас цензура, политика, шаг вправо, шаг влево — неформат. Про любовь, про войну, про исторические события — сколько угодно, а все идеи, в которых какая-то излишняя острота (упаси боже упоминается наркоман или еще что-то) — нельзя, и все. Что мы, робкие такие? Творцы не робкие, продюсеры робкие. Разве робким был фильм «Мусульманин», снятый в свое время по сценарию Валеры Залотухи режиссером Хотиненко? Не знаю, что с ним сделала бы РПЦ, если б сейчас он вышел. Дело не в том, что фантазии у нас не хватает, творческих поисков не хватает, все это у нас есть. Возможности! На любом, самом усовершенствованном тренажере нельзя научиться управлять самолетом. В этом и беда. Все это, о чем я говорил, отражение общей экономической ситуации. Упрощенно говоря, в России бедное кино, потому что страна бедная. И это я не в уничижение моей родины говорю, а просто отмечаю очевидный факт. Мы бедные.
— Но погоди, есть индийское кино. Они, что ли, сильно богатые?
Это национальный феномен. Отчасти это схоже с советским феноменом. Потому что индийское кино — и это десятилетиями так было — приносит доход. Это индустрия. Там и государственные вложения, и частные. А почему же не быть инвестициям, если это приносит доход? Если весь миллиард дружно идет смотреть, как очередная красотка-звезда поет, танцует и изящно выгибает свои типично индийские волнистые чресла? И все это про любовь. Там пишут «Художественный фильм», если это индийское кино, а если американское, так и пишут «Американское кино» — они не пишут «художественное», потому что оно условно художественное. Такой феномен. Появляются по всему миру такие вспышки, всплески коротких кинематографических расцветов. Было явление, которое называют «современное румынское кино». Когда подряд появилось около дюжины великолепных румынских фильмов. Подросли люди, которые любят кино, они научились его делать и сделали эту дюжину. Как правило, это рефлексия на недавнее социалистическое прошлое. Они проговорили то, что не имели возможности сказать раньше. Традиционно существует поддерживаемое государством — и традиции эти очень богатые — хорошее польское кино. Есть так называемое европейское кино. Это Франция, Германия, Нидерланды. Иногда — поскольку это Евросоюз — смотришь на производителя и понимаешь, что это давным-давно вне стран, это совместное производство, и во главе угла стоит либо талантливый продюсер, либо он же, как правило, и режиссер. Там речь идет не о каких-то национальных кинематографах — разделение, градация уже просто по личностям. Есть Ларс фон Триер, есть Кустурица, другие люди... Вот и в России так же. Кино нет — нет как индустрии, режиссеры есть. Бардак продолжается. И будет хуже. Хотя все-таки мы с Пускепалисом сняли «Клинч», была мировая премьера в Ереване, он выйдет в прокат, надеюсь, зрителям понравится. Я ведь не люблю заумного кино и не люблю кино откровенно попсового. Мне нравится кино и умное, и достаточно демократичное. Потому что я считаю, что кино — демократичный вид искусства. Как один из образцов, это тот же «День сурка». Или «Форест Гамп». Или «Человек дождя». Хотя проекты, которые считаются заумными, мне тоже нравятся. У того же фон Триера — «Догвилль» я очень люблю. «Меланхолия» его же — страшный фильм, но мне нравится. В общем, кино должно быть хорошим и разным. А для того чтобы оно было разным и хорошим, нужна индустрия.
— Расскажи, что делают продюсеры. Откуда они берутся? Их как-то готовят?
По-разному. Кто-то приходит из смежных профессий, и их очень много. Они просто любят кино. Кто-то — из режиссеров. Гораздо реже из сценаристов приходят. Продюсеры бывают разные. Во-первых, есть боссы. Это продюсеры телевизионные, они во главе телевизионных каналов. Это продюсеры-заказчики. Есть тьма-тьмущая исполнительных продюсеров. В телевидении все именно так. Исполнительный продюсер без повеления, разрешения и финансирования продюсера-заказчика делать ничего не сможет. Поэтому продюсеры, которые делают сериалы, все стоят в очереди на каналы, предлагая проекты — в виде заявок, сценариев первых серий, иногда даже пилотных первых серий, если наскребут деньги. Они стоят в очереди, а каналы решают — что заказать, а что нет. А дальше исполнительный продюсеры организуют процесс. Раньше это называлось «директор фильма». Режиссер — следующая ступень. Иногда бывает, что режиссер приходит со своим проектом к исполнительному продюсеру и даже пробивается к заказывающему продюсеру, но, как правило, подавляющее большинство режиссеров снимают то, что им заказывают. Крайне мало кто приходит со своими идеями, потому что эти идеи смелее того, что хочет телевидение.
— А ты как работаешь?
Я придумываю разные сюжеты и бесконечно засыпаю продюсеров — исполнительных, каналов и т. д., предлагаю заявки на фильмы, на сериалы, рождающиеся у меня в голове. Четыре не пройдет, пятая проходит. Иногда не самая лучшая, а просто наиболее годная, наиболее форматная. Иногда принимаю участие в предложенном мне процессе, выполняю заказную работу. Если это не противоречит моим принципам, я соглашаюсь. На черновую работу тоже иногда соглашаюсь. Бывает так: заказывают сценарий кому-то, по идее, по сюжету он неплох, но там хромает, там кособочится. Зовут меня, я его лечу. Кстати, есть специальный термин — сценарный доктор. Весьма уважаемая работа.
— Ты в этих случаях как-то указываешься в титрах?
Зависит от моего желания. Если я вижу, что результат получился более-менее достойный, почему бы и нет? Либо «при участии», либо через запятую. Если мне это не очень нравится, меня изымают. Есть три-четыре сериала, где никто не знает, что я участвовал, потому что я решил: ну его, сниму с титров свое имя. Бывают вообще любопытные истории: я предлагаю сюжет, предлагаю замысел, который у меня родился, а по ходу дела понимаю, что разрабатывать его мне неинтересно, слишком все очевидно, слишком все понятно, мне скучно. Или мне предложили более интересную работу. И я — бывает так, мне нравится это делать — торгую замыслами. У меня расписан сюжет, у меня обозначены герои, иногда даже написана первая серия. Я говорю: хотите делать? да купите! Это к тому, как, собственно, сценаристы зарабатывают. Самая незавидная доля у тех, кто работает в команде на так называемом мыле, то есть на сериале с вялотекущим сюжетом, в котором 555 серий, где 3-4-5-12-17 сценаристов, муравейник такой.
— Это вроде «Ворониных»?
Нет, «Воронины» — не мыло, это ситком так называемый. Это комедии — для отдыха, это шоу, построенные не столько на характерах и сюжетах, сколько на шутках, на ситуациях веселых. Этот вид сериалов мне как зрителю часто интереснее, чем так называемые драматические сериалы.
— А что это за драматическое мыло?
А я их названий не помню. Какая-нибудь, условно говоря, «Несчастная невеста». Вот она несчастная на протяжении 300 серий, а потом оказывается счастливой, чтоб потом опять стать несчастной. Ой, это такие бытовые истории.
— Что-то «про Золушку»?
Да, про Золушку на бытовом уровне. Вот это я не люблю, мне скучно. А то, что ты назвала, иногда бывает смешно. «Моя прекрасная няня» был очень веселенький сериал. Я у американцев люблю ситкомы. Когда ничего не могу делать, когда я ничего не хочу читать и даже не хочу смотреть умное кино, я смотрю эти ситкомы. На сон грядущий, когда смежаются веки, пару серий. Типа «Теории большого взрыва», «Как я встретил вашу маму». Это кино для отдыха. Оно не пошлое на самом деле. Или «Аббатство Даунтон» — очень-очень качественный, надо сказать, сериальчик. Иногда завидки берут: где это видано — снять сериал про четырех парней, трое из которых доктора наук, а четвертый инженер, все в университете работают, преподаватели — и про них сериал... Ну, и про любовь, естественно. Тем не менее, там шуточки такие, что, видимо, у сценаристов настоящие доктора наук в консультантах. Они смелее намного. Они умеют превращать в позитивное человеческие не то чтоб недостатки, а очень серьезные проблемы. Вот умудрились снять «Стивена Хокинга», и не побоялись, что это будет смотреться как-то не так... Там чаще говорят о сексе, а у нас этого страшно и лицемерно боятся. У них, если прислушаться и присмотреться, то разговоры эти на самом-то деле достаточно целомудренны. Больше того, в подавляющем большинстве ситкомов (казалось бы, комедия, делай что хочешь), легко заметить, никто не курит (вспомни хоть «Как я встретил вашу маму»).
— А как же тлетворное влияние?
Знаешь, если вглядеться в их продукцию киношную и сериальную, ощущение, что Большой Брат не дремлет и министерство пропаганды у них работает намного эффективнее, чем у нас. Потому что там сплошь и рядом воспеваются пристойный социально адаптированный образ жизни, американские ценности и т. д. Вот где скрепы! Когда я думал над этой проблемой, я понял, что дело не в Большом Брате и не в министерстве пропаганды, а в том, что, когда есть определенного рода воспитание — при участии ли государства, при участии ли образовательных структур, не кампаниями, а из поколения в поколение, — эти самые ценности въедаются в плоть и в кровь, и над продюсером, над режиссером не надо никакого министерства. Он сам себе абсолютно естественный пропагандист этих самых ценностей. Он социально заточен и ориентирован. А мы, будучи в моральном отношении не самым идеальным народом, страшно лицемерные. Представить себе какую-нибудь сцену, как в американской киношке, где умершая бабушка из гроба вылетает (понесли ее не так, как надо), представить это в нашем кино почти невозможно. Мы трепетно, лицемерно и трусливо относимся к этим проблемам. К хтоническим вещам, к сексу и всему, что его окружает. Поэтому у нас близко нет таких режиссеров, как Вуди Аллен. Да и с религией у нас как-то так. Боже ж мой! Вот Польша. Был человек, Кшиштоф Кеслёвский, намного опередивший этот сериальный бум, снявший проект, ставший прорывом, «Декалог»: короткий фильм о смерти, короткий фильм о любви, они все как бы по библейским заповедям сделаны. Смело, черт побери! А как можно не смело говорить о таких серьезных вещах? Да тебе не поверят. А мы друг другу не верим, мы друг друга боимся: верующие не верят неверующим, неверующие не верят верующим, партия и правительство не верят народу, хотя делают вид, что верят, 90% народа говорит «Да, я за Путина». Я-то давно тут живу и понимаю, что, когда на улице пристанут с предложением сказать «нет» или «да», человек чаще скажет да, чем нет по двум причинам. Скажешь «да», тебе ничего не будет, кроме похлопывания по плечу (он же отвечает от желаемого интервьюером, естественно). А потом многие забывают, что русское «да» абсолютно синонимично слову «отъебись».
— Почему же мы такие закрытые?
Я бы сказал, что это появилось после 17-го года, но на самом деле раньше. Сложный вопрос. «Нашел — молчи, украл — молчи, потерял — молчи» — это не воровское правило советских времен, это Гиляровский еще описывал нравы Сухого лога и Волчьего оврага. И кстати, даже дал пояснение, что означает эта поговорка, которую он от босяков услышал. Нашел — молчи, потому что скажешь — попросят поделиться. Украл — молчи, понятно почему. Потерял — молчи, потому что скажут: ну и дурак. Мы закрытые, потому что жалующиеся. Тут ведь комплекс сложный, комплекс смирения паче гордости, комплекс внутренней гордыни, когда открыться — значит, признаться в своей слабости. А еще внутренняя какая-то и лень, потому что ничего не делать и терпеть, да еще гордиться своим терпением легче, чем что-то делать. На моих, на наших глазах народ оказался как путами повязан кредитами, необходимостью где-то постоянно добывать денег, проблемами с жильем, кучей всего, реально падают доходы, реально растут цены. Именно в этот период Путин получает наивысший рейтинг. А такое ощущение, что что-то в нашей ментальности подсознательно замкнулось, как петелька в крючочек. Нам по-херовому комфортно. Это как бомжа одели, пригласили к родственникам, шампанское там, он просидел под взглядами чужих, унес бутылку водки, спустился в свой коллектор канализационный, надел свою фуфайку вонючую и сказал: «Хорошо!..». Я ловил себя на похожих чувствах, я знаю, что это такое. Грустно. Правда, пока мне, слава богу, грустить особо некогда — работы много. Чего и другим желаю.