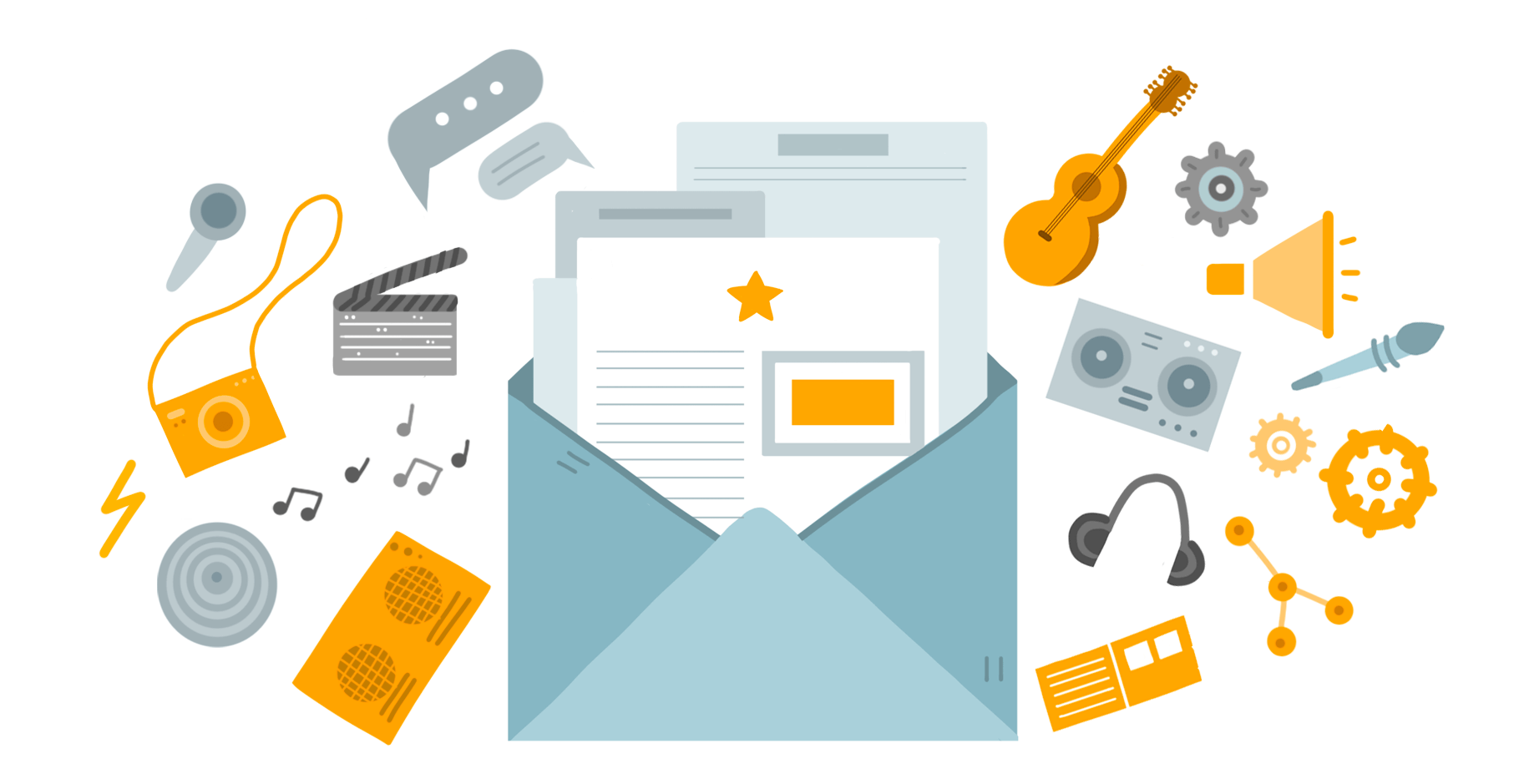У поколения людей, которые выросли в свободной России и привыкли называть вещи своими именами, вторжение в Украину вызвало искреннее сопротивление. Государство развернуло кампанию невиданных масштабов, чтобы навязать гражданам необходимость и вынужденность военных действий. Через какие механизмы власти удается программировать население, убеждая если не открыто поддерживать войну, то игнорировать происходящее, объясняет писатель Дмитрий Глуховский в тексте о том, каким образом люди оправдывают действия государства и почему вынужденное замалчивание правды и отказ от своих убеждений приводит общество к самообращению в рабство.
Наше с вами поколение (я сюда включаю как 20-летних, так и 40-летних — всех, кто формировался и формируется в постсоветской реальности) первые 20 лет жило в свободной (где-то уже частично в несвободной) России. Мы были как будто бы вне сферы идеологических интересов государства, да и само государство как таковое отсутствовало. Люди его возглавившие дербанили страну с огромной увлеченностью, а люди его населяющие были предоставлены сами себе и фактически могли существовать впервые за невероятно долгое время в положении идеологического вакуума, когда государство не диктовало народу, что считать правильным, а что неправильным.
Мы впервые за долгое время могли называть банальные вещи своими именами, пока власть была занята пилежкой. Но когда пилежка кончилась и пришло время охранять раздербаненное от посягательств со стороны народа, государство снова заинтересовалось тем, чтобы путем сначала тонкой, а потом и не тонкой настройки мнения направить мысли граждан в «нужное» русло и максимально отвлечь их от картины реальности. Со всей остротой это проявилось во время войны.
Очевидно было, что первые дни войны застали врасплох всех — не только людей гуманистических и демократических взглядов, но и армию, часть спецслужб, технократов в правительстве и самых неполитизированных обывателей.
Никто по-настоящему к войне готов не был. Это очевидно хотя бы по реакциям членов Совета безопасности, которые что-то блеяли и бледнели, будучи вызванными Путиным на ковер, чтобы прилюдно быть в этой войне кровью замазанными. Было очевидно, что никакого консенсуса по этому вопросу нет, и как они ни пытались, не могли изобразить убежденность или искреннюю поддержку. Это была история, которую никто из них изначально не поддерживал, ложность и бредовость декларируемых предпосылок была очевидна и людям в этом зале, и всем депутатам, которым было сказано стать следующими поддерживающими эту войну публично.
В первые дни вторжения мы увидели искреннее и массовое сопротивление войне тысяч деятелей культуры, науки, искусства. Всевозможные профсоюзы переводчиков, сценаристов, философов подписывали массу открытых писем против войны, селебрити выступали против, все инстаграм-дивы постили черные экранчики — всем было очевидно, что это зло, что предпосылки ложные, что война ничем не оправдана.
Правда была в том, что мы напали на соседнее государство, что оно ничем эту войну не спровоцировало, что война носит захватнический характер и попытки ее объяснить высосаны из пальца.
Кроме того, казалось, что с точки зрения истории новейшей России творится совсем беспрецедентное зло. Было очевидно, что страна делает шаг в направлении пропасти, не говоря о том зле, которое она совершенно не обоснованно причиняет украинскому народу.
И несмотря на то, что в течение восьми предшествующих войне лет все федеральное телевидение массированно пропагандировало возможность силовых методов — все цепные псы: от Соловьева и Мамонтова до Толстого и Скабеевой и все их псевдо эксперты всячески сдвигали окно Овертона, пытаясь доказать людям необходимость, целесообразность и, главное, возможность нарушения мыслимых и немыслимых табу и начала войны против братского, на тот момент еще, украинского народа — никакой широкой общественной поддержки войны не было. Десять процентов «укушенных» были готовы войну поддержать, но все остальные люди совершенно к этому готовы не были. И присказка «лишь бы не было войны» наиболее точно описывала состояние российского общества в то время.

Поддержка была только от людей вроде Евгения Миронова, который уже замазался поездками в Донбасс, или Михаила Пореченкова, который и так стрелял в направлении украинских войск из пулемета, или Захара Прилепина, который стал одним из апологетов нового российского империализма, псевдо-советской ностальгии и колониального русского неофашизма.
Однако власть проявила настойчивость — разными методами воздействовала на лидеров общественного мнения, жестоко пресекала попытки мирного протеста.
Более 16 тысяч человек были арестованы за участие в антивоенных акциях в первые дни вторжения — это самое большое число арестованных за участие в каких-либо акциях за всю историю новейшей России. До этого такого не было, не было такой жестокости, с которой силовики подавляли эти акции — было и применение электрошокеров, и избиения — в таких масштабах это беспрецедентная история для России.
Потом власть проявила удивительную последовательность в том, чтобы приручать тех общественных, культурных деятелей и политиков, которые заняли определенную дистанцию или открыто воспротивились войне. А также удивительную настойчивость в том, чтобы, не сдавая, не откатывая назад, продолжить навязывать населению свою картину мира, в которой эта война была необходима.
Все мы читали инсайдерские сигналы из администрации президента, из каких-то финансовых институций, технократического корпуса российского государственного аппарата — все были в ужасе от происходящего, никто это не поддерживал.
Но удалось через механизмы «замазывания» втравить людей — по той же самой технологии, по которой Владимир Путин втравил членов Совета безопасности, заставив их публично на камеру поддержать войну. Точно так же потом кругами по воде были активированы и включены в эту историю депутаты Совета Федерации, депутаты-сенаторы, депутаты парламента, потом дальше вниз по цепочке различные чиновники вплоть до директоров школ и институтов. Затем эту историю гигантской круговой поруки они спустили вниз на всю страну.
И преследование инакомыслящих развернулось по полной программе. Мы знаем, что к режиссерам, которые позволили себе критику войны, были применены репрессивные меры воздействия. Им был выписан волчий билет. И для того, чтобы вернуться в профессию, им нужно было пройти определённый обряд публичного покаяния и смены позиции. Например, Рома Зверь недавно пошел на это — недостаточно было просто сказать: «Ой, бес попутал, простите, погорячился человек», надо было удалить все свои антивоенные посты и потом сделать общественный шаг для того, чтобы растоптать свою прежнюю репутацию. Так Рома Зверь поехал в Донбасс и спел что-то невидимым бойцам видимого фронта.
Таким образом, удалось настоять на заведомо ложной версии событий, в которой Россия не исходила из личной заинтересованности своего президента и развязала войну против украинского народа, навязав ее российскому, а была вынуждена, потому что… Потому что гуси распространяют радиоактивный спид против славян русского происхождения, потому что украинцы разрабатывают атомную бомбу, потому что они бы первые напали, 8 лет бомбили Донбасс и так далее.
Это было бесконечное прощупывание версий в поисках той, которая бы могла найти какой-то отклик в душах и сердцах народа.
Очень интересно, как осуществляется перепрограммирование населения, спикеров, представителей истеблишмента, бюрократического аппарата, самопрограммирование деятелей пропаганды через внедрение новояза. Да, это не современное изобретение, это активно внедрялось и при советской власти, и в гитлеровской Германии. Называние неоднозначных или даже откровенно людоедских инициатив власти каким-то новоизобретенным термином и принуждение людей к его произнесению позволяет программировать сознание.
Самый очевидный пример — это «специальная военная операция», СВО, которая заменяет слово война. В соответствии с законом о специальной военной операции власть имеет право держать в полном секрете и цифры собственных потерь, и цифры жертв противоположной стороны, в том числе среди гражданского населения. Потому что все, что «специальное», покрыто завесой тайны, и нет никакой обязанности со стороны власти что-либо декларировать.
Однако дальше принуждение к использованию термина СВО обрело характер навязывания маркера «свой — чужой» населению. Если ты называешь это войной, будешь публично высечен и наказан, за называние очевидного очевидным получишь срок за дискредитацию армии РФ.
Сам по себе закон, который называется «Закон о дискредитации вооруженных сил», не о дискредитации, а о том, что ты называешь вещи своими именами. Закон о том, что ты распространяешь правдивые сведения о военных преступлениях российской армии, назван законом о распространении заведомо недостоверных сведений.
Есть исторический пример: в нацистской Германии ни в коем случае, даже среди лиц непосредственно к этому причастных, нельзя было называть истребление еврейского народа казнями и убийствами. Был очень строго регламентированный вокабуляр. В частности, казни назывались «специальными мерами».
В фильме Ласло Мелиша «Сын Саула», который описывает происходящее в Освенциме, заключенные, работающие в печах, не имели права называть тела убитых евреев людьми или трупами. Их нужно было называть словом «вещь». Немецкая охрана очень настаивала на этом.
Через какое-то непродолжительное время произнесение вслух определенных вещей начинает форматировать сознание. Если ты понимаешь, что лжешь, называя войну специальной военной операцией, это создает ощущение когнитивного диссонанса. Делается это, конечно же, через угрозу репрессий, насаждается именно для того, чтобы привести население к конформности, подавить сопротивление и даже мысли о нем через соблюдение ритуала, который заставляет в ежесекундном режиме отказываться от своих убеждений.
Тот факт, что ты публично вынужден замалчивать правду, не называя войну войной, как требует от тебя власть, каждый раз понемножку гнет тебе хребет, — и либо ты станешь гуттаперчевым, либо хребет у тебя хрустнет.
Когнитивный диссонанс — это ощущение неприятное, ты понимаешь, что наступаешь на горло собственной песне, отказываясь от своих принципов, поэтому ты стараешься всего этого избежать. Но если с одной стороны это подкрепляется репрессиями и страхом наказания, ты не можешь в эту сторону ступить, потому что боишься потерь: работы, свободы и т. д., и ты начинаешь двигаться в другую сторону. Чтобы не чувствовать себя лжецом и трусом, не подрывать основы собственного мироощущения, где ты желаешь видеть себя человеком правым и правильным, — ты начинаешь убеждать себя в верности аргументов, на которых зиждется оправдание насилия, лживость которых ты прекрасно понимал вначале.
Ты начинаешь искать аргументы и факты, которые позволят тебе подвергнуть эрозии собственную прежнюю позицию и укрепить в этом диалектическом поединке позицию той стороны, которая угрожает тебе насилием. Мне кажется, на этом строится конформизм.
Люди начинают подвергать сомнению возможность истины как таковой, говоря себе, что есть только точки зрения и одна точка зрения равна другой. И то, что Путин видит мир так, словно еще продолжается холодная война или даже война мировая, — это валидная точка зрения. Хотя мы прекрасно понимаем, что пока он эту воображаемую реальность не реализовал путем масштабного кровопролития, она оставалась исключительно в его воображении.

Этот процесс переламывания хребта самому себе является желаемой целью диктатуры. Смысл не просто в том, чтобы заставить людей произносить вслух какие-то вещи, а в том, чтобы они над собой эту процедуру проделали, сами себя заставили поверить в заведомое вранье. И этот процесс убеждения себя в истинности вранья, само унижение, на которое ты идешь, исходя из страха или из соображений выгоды, — это процесс самообращения в рабство.
За прошедшие 30 лет из-за недогляда власти, которая была увлечена бизнесом, выросло поколение, предоставленное само себе и относительно свободное. И это поколение нужно было снова призвать к ногтю и сапогу.
Самым действенным способом убеждения оказалось переворачивание всего — то есть представление себя вместо агрессора жертвой, у которой не было выбора и которую в это втянула Украина и ее западные партнеры. То, что это совершенно никакую проверку реальностью выдержать не может, не имеет значения, потому что гораздо важнее здесь та яркая эмоция, которая подбрасывается людям и затмевает неубедительность аргументации.
Само ощущение настолько сильно, что люди с удовольствием эти эмоции проживают и хотят их проживать еще, потому что они дают им упоение, отвлечение, временное избавление от тревог и боли.
Пропаганда не то чтобы убедительна, но она заразна и она справляется со своими функциями. Ей не приходится тревожиться по поводу убедительности своей аргументации, потому что сила эмоции важнее, чем факт.
Тем не менее каждый раз, когда очевидность лживости позиции, которую требует тебя занять государство, начинает резать глаза, людям необходимо доказать себе, что они принимают то или иное решение не исходя из соображений выгоды или самосохранения, и они начинают приписывать своему выбору какую-то моральную подоплеку.
Уезжающие говорят, что уезжают не потому, что боятся за себя и своих детей, а потому, что не хотят разделять это будущее с диктатурой. Те, кто остаются, наоборот, говорят, что они проявили мужество, оставшись. Те, кто поехал на фронт, объясняют, что они делают это не потому, что им платят 400 тысяч рублей за убийство людей, а потому, что они настоящие мужики и защищают родину.
Кроме того, надо понимать, что любая диктатура — это прежде всего сила. Выбор здесь лежит не между правдой и ложью, а между правдой и силой. Пока диктатор силен, он убедителен. Как только он ослабел, его сразу начинают высмеивать. Все видели, что король голый, но дело в том, что было очень страшно сказать это вслух, чтобы голову не отрубили. Но если у короля случился инсульт, он упал с трона голой жопой кверху, в этот момент всем становится очевидно, что он голый. Потому что в этот момент уже не страшно.
Другая история заключается в том, что, примкнув к силе, ты начинаешь эту силу оправдывать, потому что, во-первых, ты должен морализировать свою позицию, во-вторых, ты не можешь признать, что находишься на стороне зла. Если ты говоришь, что «все не так однозначно», это значит, что нет в этой ситуации двух полюсов. Нет хорошего, нет плохого, нет черного, нет белого. Если все серые, то ощущение нахождения на стороне зла перестает разъедать тебя. Правда не существует как концепция, поэтому все могут врать. И, соответственно, распространяя ложь, я не совершаю ничего заведомо аморального.
Ещё одна стратегия, чтобы избежать ощущения нахождения на стороне зла, — это пропагандируемая беспомощность, когда ты говоришь: «Я ничего не могу изменить и от меня ничего не зависит, поэтому я отказываюсь занимать здесь какую-либо позицию». И есть эскапизм, который заключается в том, что ты просто продолжаешь жить свою жизнь. И мы это наблюдаем в особенности в Москве и Петербурге. Крайний случай — это приписывание своих грехов силе обстоятельств, когда ты говоришь «не мы такие, жизнь такая». Это тоже желание себя оправдать. Да, приходилось работать в концлагере, ну, а что делать? Невозможно признать, что ты примкнул ко злу.
И мы видим, что хотя Россия творит многократно задокументированное зло, большая часть населения научилась происходящее игнорировать либо декларативно поддерживать.
Прогноз для России, мне кажется, не катастрофический, но и не утешительный. Я думаю, что этот опыт принуждения людей к верованию в заведомую ложь, унижения публичных людей, растаптывания чувств и человеческого достоинства сформирует у нас очередное поколение циников, людей, способных к двоемыслию, пусть и не рабов, конечно. И я последний, кто поверит в то, что русский — это генетический раб.
Я считаю, что поколение условного Дудя — это поколение людей свободных, мыслящих и стремившихся к свободе человеческой жизни и глобальному миру. И именно в том, чтобы этих людей снова загнать в рабство, и заключался план замазывания русского народа кровью украинского.
Сама по себе Украина России не нужна, территории не нужны, население не нужно, а нужно обеспечить покорность российского народа еще на поколение вперед.
Больше о том, как власть навязывает россиянам поддержку войны
Антивоенный протест незрячих. Оксана Осадчая об одиночных акциях, феминизме и диалоге с теми, кто поддерживает войну
«Для детей вредно, что учителя бесправны». Глава профсоюза «Альянс учителей» о том, как бороться с пропагандой в школах
«Ваше отношение к специальной военной операции?» Монолог студента СПбГУ, отчисленного за создание «русофобской» ячейки