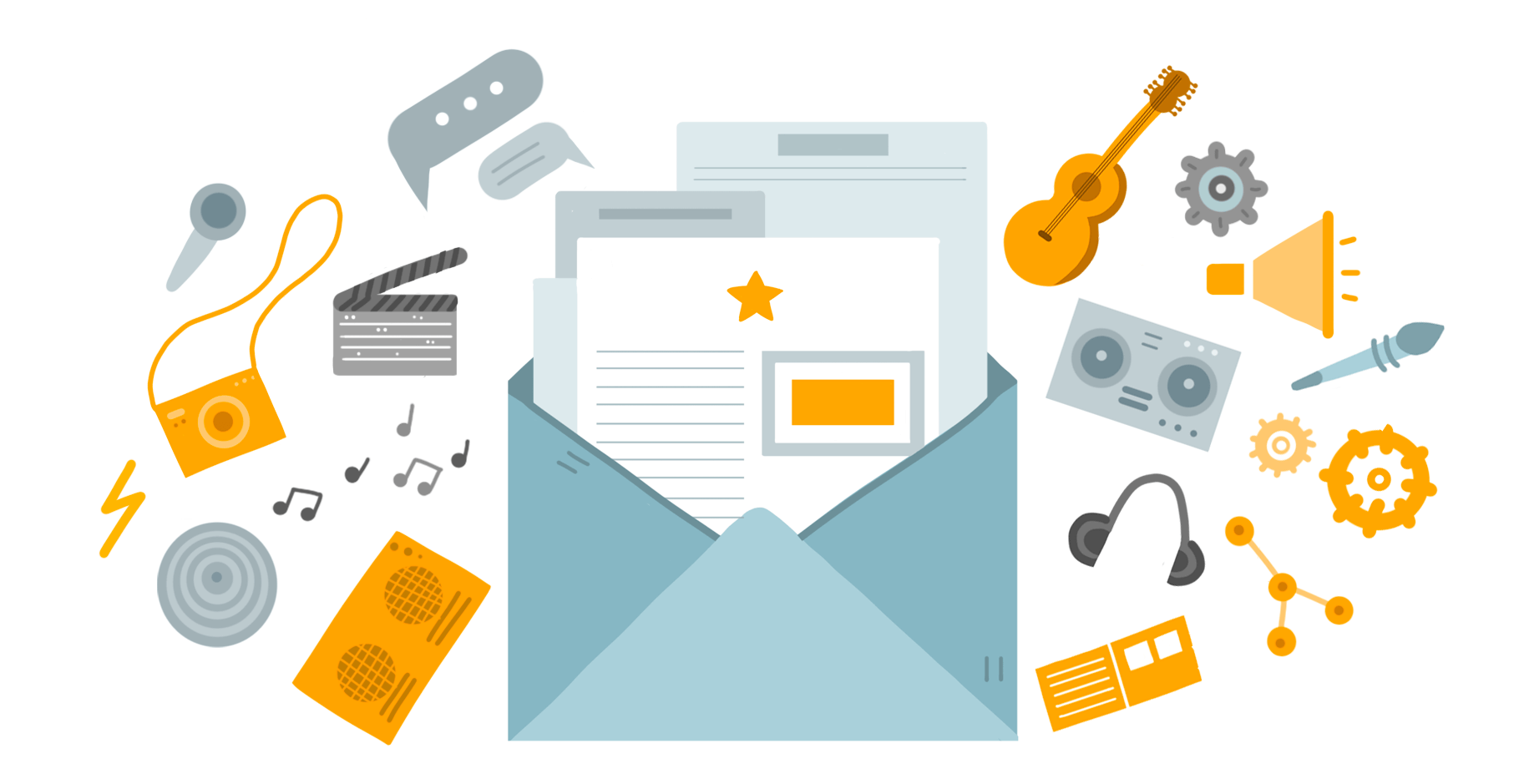Искусство во время чумы. Монолог из пьесы «Шостакович» о внутренней борьбе музыканта со страхом большого террора

Переживая сталинский террор, всеобщую подозрительность и массовые обвинения людей в шпионаже и предательствах, великий русский и советский композитор Дмитрий Шостакович ощущал, что прийти могут и за ним. Накануне самого страшного в истории сталинских репрессий 37-го года оперные и балетные постановки композитора разгромили в «Правде», обвиняя произведения с одной стороны в излишней сложности и антинародности, а с другой — в легковесности и фальши. В то же время по обвинению в троцкизме расстреляли его друга генерала Михаила Тухачевского, а потом и следователя, который допрашивал Шостаковича о заговоре военачальника против Сталина.
Искусству во время чумы посвящен изумительный монолог пьесы «Шостакович» драматурга Светланы Шимоне, детально изучившей биографию и письма знаменитого композитора. Муки, страхи и потрясения народа оживают в эмоциональной исповеди от первого лица, в котором музыкант признается, как сквозь слёзы писал свои симфонии, позволил властям убить и воскресить себя, стал мышкой в лапах кошки-диктатуры, дрожал за жизнь, ходил по минному полю, потакал советской риторике, но продолжал сопротивляться несвободе оружием творчества.
ШОСТАКОВИЧ. …всё страх, понимаете. Это ощущение животного страха опять вернулось. Если бы вы, товарищ гипнотизёр, скажем, помогли мне избавиться от него… Ведь, по сути, 36-й год должен был перебить мне творческий хребет. (Достаёт из чемоданчика газету, протягивает.) Это вот газета «Правда», та знаменитая статья, вы, скорее всего, слышали «Сумбур вместо музыки». Я знаю наизусть каждое слово, изучал тщательно, по много раз. Проверяйте. (Цитирует.) «…Некоторые театры, как достижение, преподносят советской публике оперу Шостаковича „Леди Макбет Мценского уезда“. Опасность такого направления в советской музыке ясна. Левацкое уродство в опере растёт из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, поэзии, педагогике, науке…» Я тогда, в январе 36-го, был в Архангельске, на гастролях. Выскочил утром купить газету, понимаете, развернул, увидел… меня зашатало. Это был такой мощный удар в самое сердце. На улице мороз, я стою без пальто, двинуться не могу, только качаюсь, как метроном. В очереди смеются: «Что, браток, с утра уже набрался?» Не помню, как вернулся в гостиницу, как ехал в Ленинград. Следом вышла статья в «Правде» «Балетная фальшь» о нашей постановке «Светлый ручей». Это уже был приговор. Я дико испугался, дико. Начались обсуждения в Союзе композиторов, долгие, позорные, гнусные. С каждым днём всё отчётливее надвигалось ощущение неотвратимой, страшной катастрофы. Жизнь вокруг изменилась. Люди с подозрением смотрели друг на друга, не высказывались, плотно закрывали двери и шушукались по углам.

Я бросился к моему влиятельному дорогому другу — к Тухачевскому. В тот год он был на пике своего положения и обладал колоссальной властью. И он вступился за меня, не испугался. Но помогло ли это? Музыку мою официально запретили, перестали исполнять. Деньги заканчивались. Я сидел, как истукан, и не понимал, как нам теперь жить? Весной родилась Галя. А зимой наступил самый страшный год, 37-й. Массовые аресты, бесконечные процессы, смертные казни. Кругом — троцкисты, предатели, шпионы. Тошнота подступала к горлу, когда слышал: тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян, расстрелян. И вдруг в газетах я прочитал о расправе над Тухачевским! Потемнело в глазах… Тухачевский погиб! Если они добрались до такого человека, я понял, что в любую минуту могу последовать за ним. Людей забирали по ночам, достаточно было доноса в НКВД. Ползли такие страшные слухи о том, что там делают с людьми, уши приходилось затыкать. Однажды ночью, примерно в три, я проснулся, трамваи не ходят, тишина, и вдруг со стороны Петропавловской крепости — выстрелы, выстрелы пачками. С перерывами в десять, пятнадцать, двадцать минут, и опять стрельба, стрельба. Что это? Ученья? Ночью? И тут меня прошиб пот: сейчас, в эту минуту, там расстреливают людей! Ни в чём не виноватых. Ленинградцев. Я долго лежал, не шевелясь, как покойник. Я смотрел на крышку рояля, мне казалось, это крышка моего гроба, чёрного деревянного гроба. Там покоятся мои сочинения, моя музыка, и совсем скоро туда шагну я… Дело шло к тому, что меня вот-вот объявят «врагом народа» и арестуют. Я собрал чемоданчик со сменой тёплого белья, мылом, расчёской и зубной щёткой. Спал, не раздеваясь. Я ждал ареста в любую ночь и в любую минуту. Иногда я долго сидел с чемоданом в подъезде у лифта: если они придут за мной, то лишь бы не в квартире, не в квартире, где жена и дочь. И вот чёрный день настал. Меня вызвали повесткой на допрос о заговоре Тухачевского. Это было в субботу. Я отвечал, что ничего не знаю, ничего, и мысленно прощался с Ниной, дочкой Галей, с мамой, с моими друзьями, со всем белым светом. Допрос отложили до понедельника. А когда я явился, оказалось, что моего следователя уже расстреляли. Это меня потрясло… Полтора года я жил в постоянном ожидании ареста. И это непрерывное мучительное ожидание страшного финала творило какие-то метаморфозы. У меня появился нервный тик, я начал заикаться. Понимаете, я очень боялся говорить, боялся, что может проскочить какое-то слово или фраза. Мне кажется, я даже как-то обострённо трусил. Руки тряслись, особенно, правая. Как вы думаете, можно что-то сыграть трясущимися пальцами? Наверное, и Бах бы не смог… И я потом, понимаете, всё время размышлял: почему они меня не уничтожили? И пришёл к выводу, что смерть, всё-таки, явилась за мной. Я умер. Умер прежний Митя Шостакович — смелый, озорной, дерзкий. Я вылез из могилы мертвецом. Я стал страшен. Превратился в шута, юродивого. Крышка гроба открылась и выпустила на волю уже другую, переродившуюся музыку. Звуки снова стали возникать в голове из ниоткуда. Но теперь эта была странная, суровая гармония. Как будто всё то жуткое и мрачное, что я ощущал и видел вокруг, теперь поселилось в моём воспалённом мозгу. Невидимая сила вновь потянула меня к роялю. Я подчинялся этой воле, я боготворил её. Руки опускались на клавиши, и пальцы сами вели мелодию. Я вспоминал это ощущение, узнавал его родную душу: как будто сейчас, в этот момент «одалживаю» свои руки, и как будто «нечто» сотворяет ими композицию. Я играл и плакал. После я хватался за перо, и ноты градом сыпались на нотную бумагу. Писал, писал и не мог остановиться. Потом снова играл и снова записывал, забывая о времени и пространстве. Очень скоро была готова Пятая симфония — моя личная драма Шекспира. (Заученно.) «Это ответ советского художника на справедливую критику партии!», «Славься! Славься! Славься!!!» Десять минут ре мажора в последней части! Я показал им, показал! Ответил своей музыкой! Это стало моим завещанием. Мне тридцать один год, но я понимал, что эта симфония может стать моим последним произведением в жизни. Я так спешил. Я вложил в неё, понимаете, всю мою боль и страдание от происходящего вокруг… И дьявол услышал меня. Партии и правительству Пятая симфония пришлась по душе.

На этот раз я был помилован, меня оставили в живых. Вытащили из могилы. Сначала зарыли заживо, а потом вытащили. Какие удивительные люди! Они заставили меня жить дальше. Даже вложили в зубы почётный пряник — Сталинскую премию. Они, понимаете, всё время то отпускали меня, то держали зубами за горло. Так кошка играет с мышкой: она не убивает её сразу, а сначала играет, мучает очень изощрённо и хитро. (Зловеще.) Но я тоже хитрый. Я буду сопротивляться. Моё оружие — музыка! Потому что я всего лишь жалкий музыкантишка. Я мышка. Мышка, мышка, мышка. Сижу и дрожу в своей норке, потому что хочу жить. Жить, чтобы сочинять. Просто хорошо и честно делать своё дело, писать музыку для людей, больше мне ничего не нужно… Я — юродивый, шут, трус, я ходил по «минному полю», играл во все их игры, боялся, творил и кричал: «Да здравствует коммунизм и Советская власть! Да здравствует товарищ Сталин, товарищ Молотов и товарищ Коганович!» … Это было безумие. Театр абсурда. Ад…
Иллюстрации: Артём Харитонов