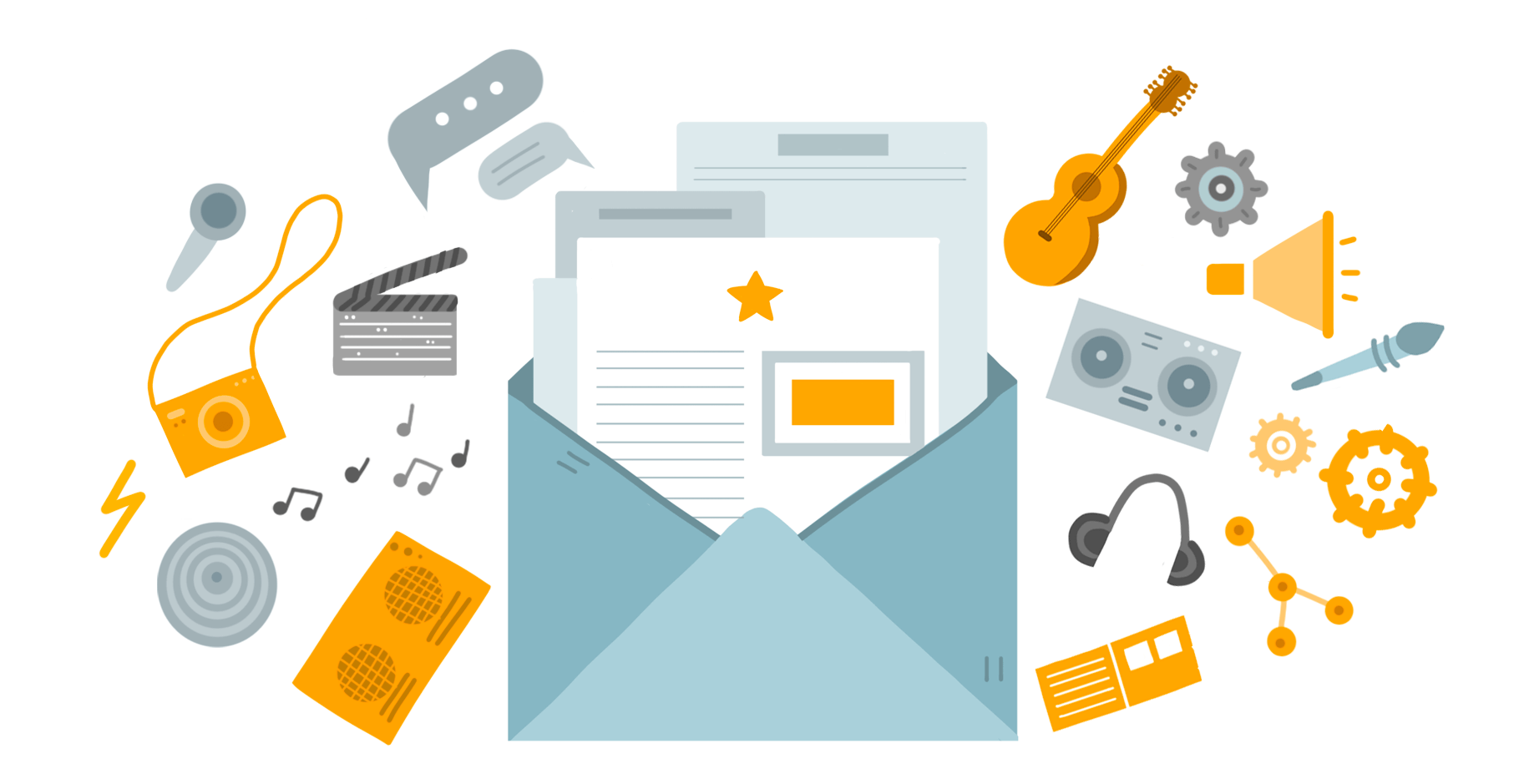Я расскажу о трех разножанровых работах, представленных на XII фестивале современного искусства «Территория», который прошёл в Москве в октябре. Их концептуальное сходство — в идее процессуальности. Однако осмысляют ее художники по-разному. Новая процессуальность может быть использована только в качестве теории, а может стать структурным принципом спектакля.
Изнанка
Греческий хореограф и режиссер Димитрис Папаиоанну привез на фестиваль видеоинсталляцию, длящуюся 6 часов. Зритель может в любой момент зайти в зал и выйти, и снова войти — на экране мало что изменится.
Светлое, эстетское, распахнутое пространство современной квартиры. Мы видим входную дверь, часть кухонного стола, лоджию с видом на город, часть ванной и двуспальную кровать.
В квартиру входит перформер (мужчина или женщина). Снимает верхнюю одежду. Сидит на краю кровати. Раздевается. Идет в туалет, умывается, принимает душ. Выйдя из ванной, вытирается перед нами. Проходит на кухню. Ужинает. Со стаканом воды смотрит в зеркало. Отодвигает стеклянную нишу и выходит на лоджию. Стоит спиной к нам и смотрит на город. Возвращается в комнату и садится на кровать. Ставит пустой стакан на прикроватную тумбочку. Обнаженный ложится на кровать. Поворачивается на бок.
Эту последовательность, где каждое одинаково исполняемое действие функционально отточено, четко распределено во времени и пространстве, воспроизводит каждый входящий актор. Мы почти не различаем лиц перформеров, хотя абсолютной унификации нет: разные фигуры, прически, рост. В отдельно взятый момент во всем пространстве может быть только один человек, а может их быть 12 — даже в этом случае никто никому не помешает.
Употребленное выше «человек» не совсем верно. Действия перформеров (функций/ моделей) сводятся к демонстрации бытовых поведенческих паттернов, а социальные и психологические паттерны при этом отсутствуют: перформеры не коммуницируют, не реагируют на того, кто находится близко, не испытывают чувств, например, стыда за свою наготу. То есть многие человеческие черты не имеют к ним отношения.
Интересно замечать за собой, как со временем в стерильном, строгом, схематичном визуальном тексте начинаешь видеть скупую метафору (а условность, как известно, — изначальное свойство искусства).
Вдоль стены друг за другом выстроены пустые стаканы. Когда каждый следующий перформер ставит свой — то весь ряд сдвигается вперед и крайний стакан непременно падает, каждый раз подхватываемый рукой, внеположной этому пространству. Стакан — как мера очередных прожитых суток; как приближение на один шаг к собственному разрушению.
Условность есть и в том, как осуществляется саморегуляция системы. Ведь в какой-то момент на кровати должна образовываться гора тел. Этого не происходит: через несколько секунд после поворота перформера на бок, он на наших глазах утопает в матрасе и исчезает. Сон — как маленькая смерть, провал, из которого невозможно «вернуться»: можно только прийти заново, каждый раз другим. Сброшенная одежда как бы растворяется, полотенца с пола незаметно исчезают, вид за окном периодически меняется. Не обнуляется только ряд пустых стаканов…
Идентичное функционирование перформеров завораживает. Это своеобразная медитация. И да, это тот редкий случай, когда инсталляция «работает» с тобой за пределами зала. Хотя бы несколько минут. Немного иначе отдаешь номерок в гардеробе, иначе надеваешь верхнюю одежду: с одной стороны, внимательнее, с другой стороны, с тревожным ощущением, что за тобой следит чей-то глаз.
Казалось бы, идея совсем не новая. Современное искусство помешано на идее вывести нас из состояния автоматизма. Например, год назад в ММОММА в рамках «Территории» прошла выставка Дмитрия Волкострелова — «Повседневность. Простые действия», на которой посетитель был и зрителем, и экспонатом. Ему предлагалось завязать шнурок на камеру, расписаться на камеру, заварить чай, послушать в темной комнате шум Тверской…
Приходит на ум и пьеса Дмитрия Данилова «Человек из Подольска» (в 2017 году Михаил Угаров поставил по ней спектакль в Театре.doc). Абсурдные «предлагаемые обстоятельства» в пьесе закручиваются вокруг полицейского отделения, где репрессивными методами из человека пытаются выдавить, что он видит из окна электрички по пути на работу, «какого цвета стены в подъезде»: ведь «кругом столько интересного!». кажется, эта пьеса — одна из первых, где в ироничном свете выставлен не «человек автоматический», а сама новая культурная тенденция — во что бы то ни стало привести этого человека в состояние полной осознанности.
В отличие от пьесы Данилова, Папаиоанну исследует проблему рутины всерьез. И всерьез поэтизирует повседневные действия.
Фаза. Четыре движения на музыку Стива Райха

Часть «Выход»
Идея цикличности, воплощенная в «Изнанке», оказалась ведущей в хореографическом спектакле «Фаза. Четыре движения на музыку Стива Райха», поставленном легендой contemporary dance баронессой Анной Терезой Де Кеерсмакер в 1982 году. «Территория» восполнила культурный пробел российского зрителя, впервые организовав приезд бельгийского хореографа и танцовщицы в Россию.
Нельзя сказать, что сегодня испытание тем, что для европейцев было непривычным 35 лет назад, наш зритель прошел успешно. Во-первых, в середине спектакля после нескольких фотовспышек сама Кеерсмакер прервала действие и сурово потребовала: «No photos! No iPhones!»; во-вторых, к финалу часового спектакля зал наполовину опустел (вспомнилась «Баня» Маяковского: «Сделайте нам красиво! В Большом театре нам постоянно делают красиво…»).
Кеерсмакер может быть названа законодательницей направления, в рамках которого танец отказывается от иллюстрации музыки и от какого бы то ни было сюжета. В центре внимания этой хореографии — базовые принципы избранной музыкальной партитуры.
Так, делая прием репетитивности стуктурной основой «Фазы», хореограф следует за избранным музыкальным материалом — первыми опытами Стива Райха в композиции: «Фаза Пианино» (Piano Fase), «Выход» (Come Out), «Фаза Виолончели» (Violin Fase) и «Музыка Хлопков» (Clapping Music).
О танце Кеерсмакер можно сказать то же, что о музыке американских минималистов: ограничение языка, средств — усиливает выразительность.
В основе базового движения «Фазы Пианино» — ритмичный прерывистый поворот вокруг своей оси. Мы видим двух исполнительниц (это сама 57-летняя Кеерсмакер — в удивительно прекрасной форме — и танцовщица Мишель Анна Де Ме). Единственный сдержанный «спецэффект» здесь — сложное освещение, благодаря которому вместе с исполнительницами в танце участвуют четыре тени позади них. А во второй части, где повторяется и постепенно убыстряется фраза «Come out to show them», над танцовщицами светит по лампе. Вот и все. Вся выразительность заключена в композициях родоначальника будущей электронной музыки и простых, доведенных до совершенства в своей отточенности геометрических движениях танцовщиц.
Звучащая фраза в какой-то момент убыстряется настолько, что спрессовывается до шума, как будто работает механизм. И танцовщицы превращаются в его шестеренки.
«Фазу» и «Изнанку» роднит неизбежно возникающий гипнотический эффект. Но если видеоинсталляцию смотришь расслабленно, устроившись на пуфике в музее, то «Фаза» «напрягает» зрителя, причем в самом прямом, физическом смысле. Это похоже на то, когда драматический актер надрывно кричит, а зритель ощущает, что его связки непроизвольно работают. Так во время просмотра «Фазы» чувствуешь, что каждая мышца «подключается» к происходящему.
Достоинства спектакля, конечно, не сводятся к мышечному «сопереживанию». Эта легендарная работа вызывает восторг безукоризненностью формы и техники. И даже совсем не обязательный ответ на традиционное «о чем?» — возникает. Вольно-невольно снова думаешь про автоматизм человека, которого ускоряющийся бег цивилизации сводит к цифре, превращает в безличный элемент системы, стирает в пыль…
Наследие. Комнаты без людей

Компания «Римини Протокол» благодаря громкому проекту-бродилке «Remote X», прошедшему в Москве и Петербурге, известна не только театральным людям.
Если на протяжении XX века велись диспуты, возможен ли спектакль без единого зрителя, то эта работа — тот случай, когда можно сказать однозначное «нет». Штефан Кэги и его соавторы (все трое — выпускники немецкого Института прикладного театроведения) создают иммерсивный театр: когда зритель — активный участник и соавтор идеи, когда исчезает разделение пространства на игровое и зрительское — и как следствие, меняется модус восприятия. Часто проекты «Римини Протокол» документальные, обычно в них отсутствуют актеры. Все это можно сказать и о сценической инсталляции «Наследие. Комнаты без людей», привезенной на «Территорию».
Спектакли «Римини Протокол» все время ставят тебя как зрителя-участника перед выбором: действовать активно или пассивно (если мы принимаем первичные правила игры — перемещаться в пространстве — значит, мы уже действуем). Здесь, в отличие от проекта «Remote Moscow», проходящего на улицах города, где, в принципе, можно все, — границы действий участников, предполагаемые создателями проекта, интуитивно улавливаются. Понятно, что подразумевается тактильное восприятие, что зрителю «разрешается» (и даже предлагается) посмотреть лежащий на тумбочке альбом с фотографиями. Но стоит достать из-под кровати картину в раме, плотно замотанную в непрозрачный целлофан, и станет понятно, что эта зона уже не предусмотрена для «вторжения» (и рвать целлофан не стоит).
В этот раз темой проекта «Римини Протокол» стала смерть, приготовления к смерти и отношение к ней тех людей, которые по каким-то обстоятельствам задумываются об этом больше других. Авторы записали на диктофон (иногда на камеру) конкретных людей, рассказывающих свои истории, собрали о них как можно больше сведений, с их разрешения взяли некоторые личные вещи или скопировали их. Так как записи звучат на иностранных языках, нам выводят субтитры.
8 маленьких комнаток мы можем посещать в любой последовательности — группой по несколько человек. В перерывах вы стоите в проходе, а над вашей головой — интерактивная карта мира, усеянная белыми звездами, снова и снова загорающимися, — это карта, на которую в режиме реального времени выводятся человеческие смерти.
Фотографии в разговоре о смерти (и неизвестно, жив ли этот человек сейчас) — особенно мощный документальный инструмент.
Ролан Барт писал о фотографии как об уникальном явлении, в котором сплетены «здесь» и «тогда». С самого момента запечатления сиюминутного бытия на пленку — наше «сейчас» переходит в разряд ушедшего.
Мы видим фотографии отца и дочери, не парадные, иногда нечеткие, сделанные во время поездок и отдыха за городом. Мы слышим голос этого мужчины, у которого болезнь Гиппеля-Линдау. Слышим, как счастлив он был, когда узнал, что это наследственное смертельное заболевание не передалось дочери; как он старается больше путешествовать с ней, пока есть время…
В другой уютно обставленной комнатке голос пожилой женщины рассказывает, что она прапрабабушка, ей 91 год, и 3 года назад ей сказали, что жить ей осталось 3 дня. На столе снова фотографии — тоже «настоящие» — только на них нет самой героини: запечатлевать людей на пленку было хобби этой женщины, остававшейся по другую сторону объектива. Особенно мощная сопричастность теме возникает, когда голос предлагает нам завести стоящий на столе будильник на 5 минут. Когда-то записанная речь незнакомого человека о смерти сливается с острым ощущением физического утекания нашего собственного времени жизни — с каждым звуком безвозвратно уходящих секунд.
Слушая историю о враче, который занимается вопросами старения, мы сидим перед сложной зеркально-мультимедийной установкой. В небольшом окошечке каждый видит то лица других участников, то свое собственное — но отстраненно. Голос задал вопрос: хочет ли кто-то жить долго, потеряв в престарелом возрасте память, не узнавая близких?..
Любопытна история про женщину, которая всегда мечтала выступать на сцене, а была секретаршей «BMW». Лежит свитер из ангорской шерсти, связанный ею 25 лет назад: может быть, женщины уже нет в живых, а он существует. И несет в себе память.
Мусульманин и атеист; супружеская пара, не решающаяся на эвтаназию, чтобы не огорчить детей, и постоянно рискующий джампер, застраховавший свою жизнь, чтобы, в случае чего, его семья не нуждалась, — все это герои сценической инсталляции.
Строго говоря, было бы некорректно отнести «Наследие» к театральному жанру «site-specific». В этом жанре работают, например, участники ежегодного проекта «Территории» — «Живые пространства». Там экспериментальные спектакли создаются на парковках, в отелях, в гипермаркетах… Здесь же есть момент искусственности. Вместо обжитой комнаты — только воссозданный ее образ. Этот образ может казаться малоубедительным, так как мы находимся в пространстве, лишенном культурной памяти: мы в белых обезличенных музейных стенах. И возникает мысль, что воздействие было бы мощнее, если бы мы побывали не в 8 комнатах, а только в одной, но настоящей. Комнате, в которой совсем недавно жил человек. Его не стало, но лежат его личные вещи, записи, фотографии, книги…
И все-таки, если в «Изнанке» и «Фазе» личность снижена до функциональной единицы, то в «Наследии» мы встречаемся с самой что ни на есть человеческой подлинностью — при полном отсутствии живых исполнителей перед нами.
Падающий стакан в «Изнанке», гудение, поглотившее голос, в «Фазе» и звук уходящих секунд в «Наследии» равно отсылают к тому, что вся жизнь — приближение к финалу. И понятно, почему это становится лейтмотивом нового процессуального искусства.