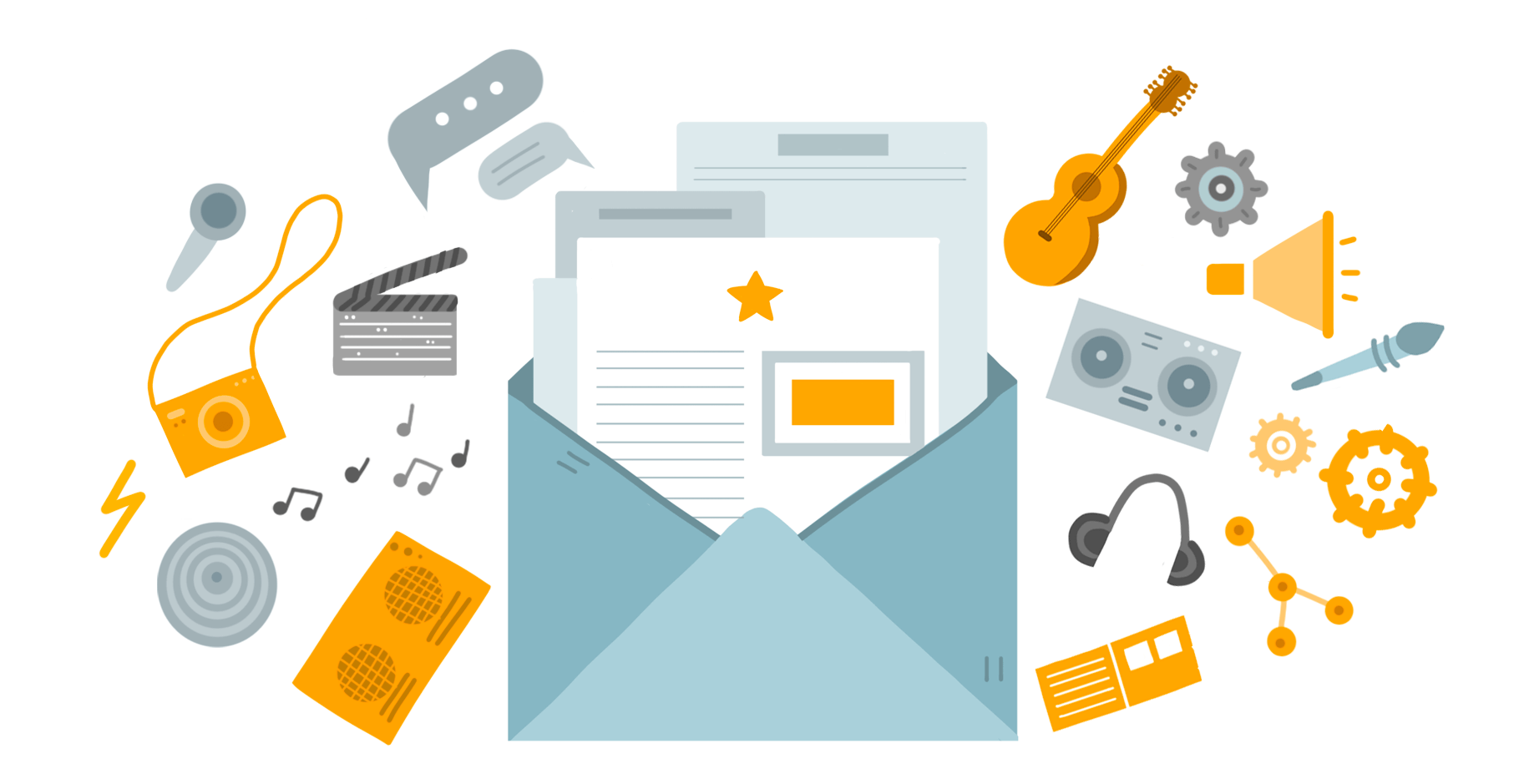Анархизм, как и искусство, позволяет людям свободно фантазировать о том, каким может быть мир вне властных систем, — считает докторка философских наук Мария Рахманинова. Наличие же чётких инструкций и директив влечёт за собой авторитарные режимы, исключение из обществ, игнорирование и остракизм — ещё Бердяев говорил, что исторически в России философия не складывалась потому, что свободную мысль преследовали. Сегодня ситуация аналогична: власть ограничивает спектр мнений, а учёные из-за проблем с визами и доступом к заграничным ресурсам не могут интегрироваться в мировую философскую повестку.
Журналистка Вита Чикнаева поговорила с Марией Рахманиновой о современном анархизме, влиянии постсоветского опыта на научные исследования, признаках анархии в городской среде, биовласти и управлении людьми с помощью прививок, особенностях анархо-феминизма и роли искусства в протестном движении. Мария рассказала, в чём заключается анархистский взгляд на историю, как люди выходят за пределы сценариев, заданных системой, почему носить маски — проявление этики и заботы, и как власть становится незаметной для того, кто ей располагает.
— Какие актуальные концептуальные проблемы существуют в современном анархизме? Какие из них можно считать классическими, а какие появились с развитием современной политической мысли?

Анархизм даёт не только готовые ответы — у него остаются и вопросы к самому себе. И он оставляет поле для того, чтобы спорить сам собой. Это похоже на мышление отдельного человека: как известно еще со времен античности, оно начинается со спора с самим собой.
И в этом смысле, как в любом живом учении, в анархизме остается множество нерешенных вопросов, многие из которых открыты со времен отцов-основателей и матерей-основательниц. И оставить их открытыми — это лучшее, что анархизм может сделать. Поскольку так он продолжает мыслить сам себя, оставляя нам свободу делать то же самое. Действительно, во многих моментах анархизм сам с собой не согласен, и это само по себе вполне анархично. В широком смысле это выражается в историческом индетерминизме, который противопоставляется марксистскому представлению об истории как о механизме, который абсолютно понятен, и в котором нет места единичному, случайному и неожиданному.
Анархистский же взгляд на историю заключается в том, что, несмотря на множество экономических, политических и других закономерностей, многое все еще может зависеть от конкретной ситуации. Это многообразие ситуаций создает условия для многообразия возможных ответов.
Например, даже если мы ставим практический вопрос о том, как нам решить конкретную проблему, ответ всегда будет зависеть от целого ряда факторов: в горах мы будем решать её одним образом, в деревне другим, в городе — третьим. Всё определяет не заведомая формула, а некая конкретная ситуация.
Эта чувствительность к реальности отличает анархизм от других учений. Поэтому среди ряда исследователей анархизма, в том числе российских, существует консенсус относительно того, что анархизм — это не идеология, а именно перспектива. Учитывая упомянутое ранее многообразие контекстов, акценты в разных ситуациях могут ставиться по-разному; могут возникать нестыковки между ответами на одни и те же вопросы. Но всегда должна оставаться возможность дискуссии, даже спора, либо принятия сторонами различий друг друга на определенных условиях. Действительно, направления анархизма часто расходятся в каких-то нюансах. Например, анархо-коммунизм, анархо-коллективизм, анархо-синдикализм и анархо-индивидуализм с определенностью едины в неприятии власти, но в методах и подходах к ней они будут различаться. Я остановлюсь на нескольких практических и теоретических проблемах, которые остаются для анархизма открытыми.
Начну с вопроса организационных принципов, вокруг которого возникает конфликт платформизма и антиплатформизма.
Позиция платформизма (которую в поздние годы разрабатывал также Нестор Махно) предполагала строительство жесткой организации, у которой будет твердый устав, и в которой все должны думать примерно одно и тоже. Платформизм говорит не только о необходимости общности в идеологии, но и сам себя считает идеологией.
Антиплатформисты, к которым относили себя Всеволод Волин, Себастьян Фор, Эмма Гольдман и многие другие, полагали, что платформизм дает начало авторитарному взгляду, что он чреват авторитаризмом. И хотя содержательно они разделяли многие положения платформизма, все же они полагали, что эта тактика может оказаться опасной для самого учения и его духа. Таким образом, два названных подхода расходились (и продолжают расходиться сегодня) в понимании тактики. В результате одним из ответов на платформизм стал синтетический анархизм, предложенный Всеволодом Волиным, согласно которому анархистам следовало искать не единообразие в мысли, а возможности объединять усилия в той точке, где у анархизма разных видов есть общий корень. Отсюда понятие «синтетический», то есть объединяющий.
Другой вопрос, в котором анархисты расходились в разные эпохи и продолжают расходиться сегодня, — это вопрос империи и колониальности. Здесь можно выделить две позиции. Назовем их условно «универсалистский интернационализм» и «либертарный регионализм». Поляризация происходит вокруг вопроса о том, что страшнее: одно большое авторитарное государство или много маленьких неавторитарных. То есть что страшнее: количество или качество, одна империя или множество государств?
Согласно одной из позиций, много независимых государств — хуже, чем одно, пусть и авторитарное, потому что государство — это в целом проблематичное образование, и большое количество таких образований проблематично вдвойне. Так размышляют многие из тех, кто видит проблему в автономных территориях, претендующих на независимость от империй хотя бы в качестве отдельных государств. С этой точки зрения сепаратизм не может носить тактического характера и всегда сопровождается региональным национализмом, препятствующим объединению всех граждан мира в большие и ценностно универсальные братства/сестринства.
С другой точки зрения, проблема этого подхода заключается в том, что под чем-то универсальным всегда понимается нечто конкретное: под «нейтральным» интернационализмом будет с неизбежностью пониматься тот образ действий, который привычен какой-то конкретной группе, принимающей себя за условную точку отсчета. Сторонники региональных автономий видят в этом проявление власти, потому что одна группа навязывает всем свой образ универсального, утверждая, однако, что он нейтрален (власти всегда кажется, что она нейтральна). Так рассуждали, к примеру, представители советского колониального проекта.
Они думали, что им доступен некий чистый универсальный интернационализм, и что они в силах нетравматично стереть все различия между своими подданными, не погрешив против «общечеловеческой/общепролетарской» нейтральности. Увы, приступив к стиранию различий на практике, они лишь предсказуемо вменили всем некий конкретный образ мира, который изобрели сами, полагая его истинным только потому, что в их представлениях он соответствовал «верному» учению о реальности.
Еще одна открытая проблема современных анархистских дискурсов — проблема встраивания постструктуралистской оптики в классическую анархистскую парадигму: возможно ли сделать это непротиворечиво, при этом не растеряв дух за новой буквой? Особенно в постсоветском мире эта рецепция вызывает множество вопросов и протестов — видимо, в той мере, в какой и сам постструктурализм здесь не успел пройти должной рецепции, а инерция советской антропологии и философии науки продолжает составлять некий негласный консенсус по поводу образов мира и присутствия в нем знания. Фактически постанархизм пытается применить данные современных наук к перспективе анархизма. И то, что становится видно из этого взгляда, ставит перед нами новые вопросы — с этой точки зрения, постанархизм крайне интересен. Пожалуй, главное здесь быть осторожным с теми его составляющими, которые заданы оптикой неолиберального Первого мира — нечувствительного к множеству важных вещей.
— Как на решение этих проблем влияет постсоветская реальность и чем она может оказаться полезной для мировой традиции анархистской мысли?
Вообще это вопрос один из тех открытых, которые остаются в анархизме по сей день. Действительно, постсоветский мир — это некое особое пространство, которое еще совершенно не открыто первым миром. Мы исчезли для него где-то после 1921 года. Когда на международных конференциях зарубежные анархисты, философы, историки видят нас, они говорят: «О, это что-то про Кропоткина. О, ну, привет Кропоткин». При этом, многие из них сохраняют убежденность в том, что Россия и Украина — это одно государство (такую уверенность выразил, например, знаменитый Боб Блэк в ходе подготовки интервью нашему журналу AKRATEIA). Не раз мне случалось наблюдать в зарубежных анархистских дискурсах и ощутимо «красноватые» настроения по вопросам нового витка Холодной войны. Например, на одной американской конференции по anarchist studies, после доклада об анархо-индивидуализме в аналитическом искусстве Филонова, другой культовый мыслитель Джессе Кон спросил меня, как можно находить интересным и привлекательным анархо-индивидуализм, имея счастье исторического опыта коммунизма и коллективизма. Тот же самый аргумент я слышала от множества иностранных интеллектуалов, очевидно наследующих его у Сартра и других французских левых эпохи первых вестей из ГУЛАГА: любая красная империя лучше, чем США, и любой красный царь — зло несравнимо меньшее.
За этой невидимостью и непонятостью так называемого Второго мира огромная часть истории остается неосмысленной до сих пор.

Не говоря уже о подлинно оригинальных, своеобразных подходах к важнейшим философским рефлексиям, выработанным на постсоветском пространстве — с учетом всей уникальности его опыта и оптики: о смерти, истории, свободе, знании, нравственности, красоте, о глубинных коридорах феноменологии, онтологии, антропологии, эпистемологии и многом другом.
Единственные, кто по-настоящему способен сломать этот лед, — люди, осмысляющие его изнутри постсоветского пространства. Но они остаются неуслышанными: у Первого мира нет интереса к их словам и их источникам.
Так, он фактически отмахивается от возможности понять, что вообще произошло в XX веке, и какие последствия это может иметь сегодня.
Опыт ГУЛАГАа не отрефлексирован даже в русскоязычном пространстве, тем более из анархистской перспективы. Отбрасывать эту проблему — легкомысленно. Впрочем, вполне обычно для Запада — с его колониальными привычками и слабой чувствительностью к чему-то за пределами самого себя.
Постсоветская повестка еще не интегрирована в мировой анархизм, и быть услышанными в сообществе очень сложно. Я бы назвала это тенью «Железного занавеса».
Кроме общей близорукости исследователей из Первого мира, она заключена и в объективных материальных обстоятельствах: для того, чтобы получить визу и поехать, скажем, в Швейцарию на юбилей Юрской федерации с докладом, мы должны иметь зарплату в два раза больше, чем наша реальная. И даже если мы подготовим великолепный материал, его никогда не услышат, потому что нам просто не выдадут визы. Я не уверена, знают ли жители Первого мира о том, что нам запрещен доступ в ряд стран только на основании того, что наш ежемесячный доход не превышает заданную планку, но это определенно составляет проблему, и притом в большей степени — на их стороне. Учитывая то, сколь важные вещи мы могли бы сообщить, имея опыт двадцатого века.
Еще одна большая проблема — доступность книг. После того, как на Россию были наложены санкции, заказать заграничные книги стало невозможно: графа «Российская Федерация» на сайтах издательств просто исчезла. Заказывать книги приходится теперь через третьих лиц, которые лично уже пересылают с почты. У нас нет доступа к крупнейшим библиотекам и возможности заказывать книги от издательств. Это не та ситуация, в которой мы могли бы говорить об открытом доступе к текстам. Мы находимся в том положении, в котором даже заниматься исследованиями анархизма очень проблематично. Это с неизбежностью приводит к своего рода «провинциальности» на фоне дискурсов «глобального анархизма», и вместе с тем создает новый опыт исключения и неслышимости.
— Марксисты считают, что через учение Маркса им открыта истина в последней инстанции, и так они снимают проблему автономии философии. Как обстоят дела с философией у анархизма?
Это главное отличие марксизма от анархизма. Напротив, анархизм — это и не идеология, и не свод правильных ответов или каких-то идеологических истин, и не инструкция к жизни, даже если речь идет о политических мерах. Такой инструкцией скорее является марксизм. И над этим много кто иронизировал — например, Платонов: в «Чевенгуре» выращивали коммунизм в огороде и гадали, поспеет или не поспеет за полгода подрасти. Это хорошая ирония. И она действительно отсылает к тому, что марксизм сам себя часто описывает как свод неких констант, догм и принципов, которые похожи на правильно работающий механизм. И он неизбежно и всегда будет выполнять действия только определенным образом.
Анархизм мыслит себя совершенно по-другому. Он, скорее, представляет собой перспективу понимания мира — некую позицию, из которой возможно вообразить разные образы мира. И эта позиция допускает, что та ценность, которая провозглашается как системообразующая в современном мире (то есть власть) на самом деле не является системообразующей, но лишь утверждает себя таковой. По сути дела она является попросту довольно убедительным призраком, поэтому в действительности для мира она совершенно не необходима. Тем не менее, она очень опасна, потому что как только в этого призрака кто-то начинает верить, он начинает жить и действовать. С другой стороны, миру она не обязательна. Она не собирает мироздание, как сама обещает, а гораздо чаще разрушает его.
Анархизм — это перспектива, из которой высказывается, ощущается и переживается недоверие к этому тезису. Фактически это — перспектива критики и демонтажа власти и вообще иерархии как принципа, который задается властью.
Можно сказать, что анархизм — это не система ответов, а способ задавать вопросы о мире, свободе и человеке. Марксизм дает всему четкие определения. Анархизм же этого не делает, поэтому для него и становится возможной философия. Он говорит о том, что нам нужно всякий раз ставить вопрос и всякий раз находить на него новые ответы. Если будут даны готовые ответы, мы с неизбежностью придем к авторитарному порядку и структурам, и свобода опять станет невозможной.
В отсутствии свободы с неизбежностью воспроизводится власть. Тогда философия либо превращается в набор штампов, либо подвергается репрессиям, потому что свободное слово в условиях несвободы преследуется. В этом смысле, свобода составляет необходимое условие не только для того, чтобы состоялась анархистская перспектива, но и чтобы философское как таковое было возможно. Бердяев, например, говорит о том, что исторически в России не складывалась философия именно потому, что свободную мысль преследовали.

Можно сказать, что анархизм питает философию, а философия питает анархизм. Увы, исторически им часто мешала встретиться та пропасть, которая создавалась академической иерархией. То есть запрос на свободу, приходивший из низов, часто не мог быть не просто услышан, но и понят теми, кто говорил от лица философии на верхах — по очевидным классовым причинам. Эту-то пропасть и следует преодолеть, во-первых, анархизму, во-вторых, современной философии. И если кто-то спросит «зачем?», мне кажется, лучшим ответом станет фигура Хайдеггера. Куда может зайти философия, которая не задумывается о свободе и о том, почему несвобода — это проблема? Туда, куда зашла философия Хайдеггера, вновь и вновь вынуждающая нас стыдливо опускать вниз глаза. По структуре она прекрасна, и она могла бы остаться такой. Но в историческом опыте произошло нечто такое, что привело её к ужасающим событиям. Это обстоятельство проницательно осмысляет, например, Гюнтер Грасс в романе «Собачьи годы», иронизируя над языком Хайдеггера и показывая, каким абсурдно-страшным оказалось смешение этих высокопарных формул с военизированным языком гитлеровской молодежи.
Хайдеггер — это яркий пример парадокса философии, отделенной от реальности тех, у кого нет голоса и доступа к свидетельствованию о мире. Я думаю, если вопрошание и открытость к свободе, присущие философии, и запрос на свободу в анархизме соединятся, они будут в известном смысле обеспечивать состоятельность друг друга. Пожалуй, это могло бы создать некоторые гарантии возможности подлинной свободы.
Таким образом, анархизм философичен, так как он открыт к вопрошаю, а философия анархична в той мере, в какой она не может вопрошать, а следовательно, и существовать без свободы (в противном случае, она начинает превращается в философствующую литературу, как это случилось в России).
Но Двадцатый век прошел, и, к счастью, историю с Хайдеггером мы хорошо поняли.
Сейчас мы стоим на пороге нового отрезка истории. Самое время понять, отбрасывать ли нам философию, как рекомендуют марксисты, утверждая, что все необходимое уже понято, или это опрометчиво и преждевременно. Лично я склоняюсь к последнему: именно из перспективы анархизма становится понятно, во-первых, насколько нам действительно важна философия, и, во-вторых, насколько ей все еще предстоит стать другой.
— Как в современном городе проявляются признаки анархизма?
Как мы договорились раньше, анархизм — это не партийная система, а некий образ мысли. В этом смысле его часто практикуют интуитивно. Однако не все называют свои действия именно анархизмом. Многие проекты носят анархичный характер, но не обозначаются как таковые. Я бы здесь выделила несколько типов обществ и несколько типов практик анархизма.
К примеру, существуют архаичные общества, которые отрезаны от цивилизации и живут неким собственном порядком. Часто они не практикуют вообще никакие властные паттерны или прибегают к совершенно иным и гораздо реже. Они по-своему понимают мир, и часто нам не хватает языковых средств для того, чтобы адекватно осмыслить их взгляды. В этих архаичных обществах (например, тикопиа или мбути) часто порицаются сценарий власти, конфликтность и агрессивность, а также развита экономика дарения вместо рыночной или плановой моделей.
С другой стороны, есть общества, которые осознанно утратили связь с цивилизацией. О таких подробно пишет Джеймс Скотт в своей монографии «Искусство быть неподвластным», посвященной Зомии — территории в горной части Юго-Восточной Азии, где живут около двухсот самых разных обществ с флюидными идентичностями. Эти общества просто не хотят быть подвластными любой государственности. Они создают своего рода анклавы, в которых практикуют горизонтальные отношения и альтернативную экономику.

Также сюда можно отнести современные высокотехнологичные общества. Они осознанно сепарируются от систем капитала и государства. Так делают, например, израильские кибуцы. Среди них можно встретить высокотехнологичные проекты, в которых люди осознанно руководствуются анархистской этикой и другими либертарными принципами. То же можно сказать о Христиании — целом городе, который придерживается акратических сценариев в повседневной жизни. Интересен в этом отношении и мексиканский штат Чьяпас, также многое черпающий из проекта анархизма: горизонтальный принцип взаимодействия, отказ от участия в практиках капитала, от подчинения государственности и так далее.
К этим современным формам горизонтальности можно, пожалуй, отнести все те локальные практики, которые доступны даже жителям больших городов в условиях таких капиталистических государств, как Россия.
Всякий раз, когда люди выходят за пределы тех сценариев, которые предписывают определенный системой порядок производства и потребления, они действуют по-анархистски.
Это может быть борьба против точечной застройки, где все жильцы соседних домов объединяются и принимают решение о том, какой будет эта борьба, и отстаивают свое видение мира. Но это также и борьба за свободу. В этот момент жители действуют анархично и становятся анархистами. Часто, несмотря на все усилия системы, люди все же оказываются готовы практиковать то, что ей не созвучно.
Все эти опыты доказывают, что часто вопреки всему в обществе сохраняется склонность к объединению, взаимопомощи и поддержке. И людям иногда удается по-настоящему прорваться к ней, несмотря на громоздкость преград в больших городах.
— Сегодня стала актуальной проблема биовласти — нас собираются разделять по наличию прививки. С анархистской точки зрения можно ли дискриминировать людей, даже если это необходимо для выживания группы?
Я не смотрю на прививку и на маску как на биовласть. Всегда ношу маску, если больна, чтобы не заразить окружающих людей. Всегда, когда я с температурой приходила на работу, если невозможно было взять отгул, я была в маске. Потому что мне казалось, что никто не виноват, что я болею, и никто не должен из-за меня заболеть. Когда началась пандемия и еще ни о каких масках не было речи, я сразу начала ее носить, потому что не знала, какого человека могу заразить, если не буду этого делать.

Я знаю многих людей с уязвимым здоровьем, и мне было очень страшно причинить им вред. Мне кажется, что если бы у нас был доступ к самоорганизации и самоуправлению, мы бы собрались и приняли решение как раз о масках. Потому что нам бы не хотелось, чтобы кто-то из нас пострадал или умер. И мне видится в этом некая этика, а не принуждение — в том смысле, в каком о ней говорят новые материалисты: этика заботы и внимательности к себе, другим и миру в целом. Меня скорее раздражает ситуация, когда ты принимаешь все меры для того, чтобы не заболеть, и на тебя кашляет и чихает человек без маски, после чего ты в итоге заболеваешь.
То же самое и с прививками. Лично я рискнула сделать прививку не только для того, чтобы пересекать границу, но и потому, что мне не хочется быть одной из тех, кто не считает нужным заботиться о других, спокойно ходит и заражает их. Для меня вакцинация — это форма заботы, и я так думала еще до пандемии. Мне кажется, это очень по-анархистки.
По-моему, если применительно к происходящему и можно говорить о биополитике, то точно не в плане масок и прививок. Увы, как и в описанных Фуко эпизодах пандемии чумы и проказы в старой Европе, в эпоху нынешней пандемии системы государства и капитала также многому научились и продолжают учиться.
Строго говоря, учитывая исторический опыт, вряд ли после пандемии мир будет прежним. Осваивая новые технологии контроля и репрессий под благовидным предлогом, власть совершенствует свои силы, находя новые подходы к нам и нашим социально-политическим маршрутам и практикам. И эта история — уже совсем не про анархистскую этику и заботу.
— Может и должно ли искусство быть анархистским или феминистским? В чем должна заключаться его особенность среди других форм искусства?
Вообще, если зайти издалека, по Шопенгауэру, искусство — это некий краткий миг свободы среди несвободы. Это такой тезис, который повлиял очень на многих, в том числе на тех, кто был близок к анархизму, а также на самих анархистов.
С другой стороны, есть мысль Бакунина о том, что никто не свободен, пока все не свободны. Она означает, что первая свобода для несвободного — увидеть свою несвободу. Лишь те, кто не двигаются, не замечают своих оков. То есть несвобода не видна несвободным. Поэтому первый шаг к освобождению — осмысление своей несвободы. Это важный этап в судьбе искусства. Так появляется искусство, построенное на рефлексии несвободы и на её критике. Это может быть вольнолюбивая лирика или живопись, которая прославляет освобождение — то, что мы сегодня назвали бы протестным искусством.
Такое искусство постепенно, по мере развития, складывается в большую традицию и дает миру множество прекрасных шедевров. Эта традиция уже не может быть нами проигнорирована — она уже в истории искусства и очень важна. К сожалению, со временем у неё появляется тенденция к упрощению. Искусство становится более плоским и может вырождаться в совсем низкопробные невыразительные агитки. Часто они тоже важны как некий повод и призыв задуматься о чем-то, например, для человека подросткового возраста или человека, который никогда об этом не думал.
Это касается и феминизма, и анархизма. По мере того, как упрощается форма и выразительность высказываний, их организационный потенциал снижается. Часто эти высказывания могут вызвать лишь какую-то легкую реакцию вроде интуитивного согласия. Здесь как раз самое место вспомнить, что искусство — это не утративший свою эффективность и работоспособность инструмент, пригодный только для того, чтобы штамповать правильные взгляды, но и краткий миг свободы, размышление о несвободе, мечта о свободе. Вот об этом «но и» протестное искусство напрочь забывает. Очень сложно встретить размышление о свободе — какой она могла бы быть за пределами переживаемого в данный момент угнетения.

Откуда мы должны взять представление о том, ради чего мы боремся? Очень сложный и важный вопрос. И что самое страшное — без правильного ответа. Важно также то, что несвободному недоступен какой-то правильный образ свободы, поэтому все, что ему остается — фантазировать о ней. Для этого необходимо включить воображение. Искусство — как раз то, что могло бы обеспечивать условия для оживления воображения, чтобы представить себе то, ради чего мы освобождаемся.
Как это возможно сделать? Как художница, могу сказать, что лично для меня работа с какой-то художественной формой связана с поиском недоступных в условиях капитализма и государств измерений мира. Капитализм и государство принуждают нас к функциональному восприятию пространства, времени, самих себя, друг друга, своего тела и своих мыслей. Мы видим только определенный утилитарный смысл вещей. Мы ходим до магазина и обратно, на работу и обратно. Мне же в художественном смысле интересно искать те расщелины, которые недоступны в этом механистичном агоритме, закладываемом в нас текущими системами власти.
Как размышление о свободе искусство — это попытка увидеть мир другим, а не таким, каким нам его представляет кратический порядок. Найти то, что в нём исчезает за ширмами развлекательных картинок в торговых центрах или внутри развлечений в целом. Мне хотелось бы следовать той традиции художников, которая пытается выявить в мире то живое и трепетное, ради чего в нем стоило бы быть свободным и рисковать в борьбе против несвободы.
Увы, в России всякий раз, когда мы противостоим несвободе, мы рискуем свободой. И когда мы фантазируем о свободе, мы тоже рискуем свободой, так как фантазируем мы о ней в условиях несвободы. Художник в этом отношении — составитель карт для путешественников по тем территориям, которых он сам не видел, но которые он как-то представляет.
Если не фантазировать о свободе, мы попадем в очень опасную ситуацию рабочего, который, благодаря улучшению своего положения, превратился в потребителя и начал все свободное время развлекаться в торговых центрах. Это, пожалуй, одна из главных драм XX века. Ради чего было пролито столько крови рабочих, участников профсоюзов? Вряд ли ради того, чтобы производитель превратился в безрукого потребителя, который не может переживать свою свободу иначе, чем предполагают сценарии, которые ему навязывает капитализм.
Иными словами, искусство — это не только режим борьбы, но также и режим свободы. И о нем важно всегда помнить три вещи. Во-первых, оно должно быть доступно всем, а не только избранным. Во-вторых, оно может быть ценно для осмысления несвободы и ее критики. В-третьих, искусство может быть важно также для осмысления свободы и поиска ее образов. И в этом смысле как философия, так и искусство не могут сводиться к агитке или политической задаче.
— Анархизм отталкивается от критики власти, феминизм — от критики власти рода и мужчин. Не тавтологичен ли в таком случае термин «анархо-феминизм»? В чем его необходимость?
На первый взгляд, в этом термине присутствует некоторая тавтологичность. Но исторический опыт женщин, которые участвовали в освободительной борьбе, подводит нас к очень важному тезису — власть незаметна для того, кто ей располагает. Поэтому, даже если человек против власти, ему не так-то легко быть против той формы власти, которой он располагает. И это в первую очередь касается ситуации женщин в анархистском движении.
Здесь я хотела бы вспомнить и Франкфуртскую школу, и даже группу Beatles, которая пела «Woman is a nigger of the world, she’s a slave of a slave», — то есть женщина — рабыня раба. Даже у самого бедного мужчины в патриархальном обществе есть очень маленькая власть. Маленькая для него или для этого общества, но не для его жены, дочери или матери. Это — та инерция, которая тянется из века век и не позволяет достичь безвластия. Незаметность этой власти приводит к тому, что всё повторяется снова и снова.
Это приводит к необходимости артикулировать саму проблему гендерного разделения труда, насилия над женщинами и обесценивания женского высказывания. Все эти проблемы на протяжении двадцатого века (а много где, увы, и по сей день) были свойственны гендерно смешанным коллективам. Женщины уже в начале ХХ века поняли, что понятию «безвластие» необходимо артикулированное уточнение.
Однако долгое время даже сообщить об этой проблеме было сложно, так как в неё никто не верил: как я могу верить в то, чего я не вижу? Вокруг этого и возникал анархо-феминизм. Наиболее склонные к эмпатии мужчины увидели эту инерцию и стали тоже что-то предпринимать по поводу нее.
Таким образом, анархо-феминизм — это важное уточнение, которое обращено к тем, кто сам против режимов власти, но располагает ею неосознанно. В этом смысле оно помогает анархистам быть более последовательными в собственных утверждениях.
— Часто говорят, что феминизм мешает анархизму, разобщая условных трудящихся по признаку пола. Что не так с этим тезисом?
Этот тезис очень популярен, и на него есть несколько простых возражений, которые не оставляют пространства для дальнейшей критики. Во-первых, если половина трудящихся будет чувствовать себя некомфортно и небезопасно, она скорее всего не присоединится ко второй половине. Поэтому чисто количественно это не очень эффективное решение. Никто не выиграет от позиции «Не хотите присоединяться на наших условиях — не присоединяйтесь вообще». Она непродуктивна, поскольку борьба всей группы эффективнее борьбы ее половины. Анархо-феминизм, как некое условие присоединения одной половины другой, работает именно на объединение.

По сути, это условие последовательного обнаружения вообще всех форм иерархии. Благодаря такой установке мы можем наладить более открытые и эмпатичные отношения. Люди смогут быть ближе и не будут отчуждены друг от друга стенами гендерных паттернов — они смогут договариваться о каких-то вещах без старых стереотипов, которые делают взаимодействие очень тяжелым и уже не соответствуют реальности.
Отход от стереотипов — важная часть гигиены во взаимодействии, потому что, когда во взаимодействии одному всегда плохо, это плохое взаимодействие. Вопрос не в том, почему мужчины должны делать женщинам хорошо. Вопрос в том, будет ли эффективна примкнувшая часть трудящихся, и примкнет ли она вообще.
Таким образом, мы подходим к самому главному. Гендер — это не про идентичность в политическом смысле. Гендер — это про ситуацию, от которой нельзя избавиться с помощью собственного волевого решения. Если я скажу, что я не женщина, а абстрактный анархистский субъект, и пойду ночью по опасной улице, то потенциальная угроза моей жизни и безопасности не исчезнет от моего заявления.
Гендер — это фильтр, через который нас преломляет мир. Мы ничего не можем с этим сделать — разве что постепенно размонтировать сам этот фильтр.
Поэтому вопрос лишь в том, как мы будем работать с ним внутри собственных политических взаимодействий и преобразовывать реальность так, чтобы всем и везде было безопасно и комфортно.
— Почему не все течения феминизма принимают анархизм, когда идеи феминизма как таковые довольно анархичны?
Здесь мы подходим к тому, что такое феминизм со структурной точки зрения. Феминизм, как мне представляется, — это некое уточнение к более широкому политическому проекту. В качестве уточнения к анархизму феминизм крайне ценен, потому что он позволяет анархистам быть последовательными до конца. Часто феминизм выступает в качестве уточнения к капиталу: «женщина тоже должна иметь бизнес и быть успешной» — и к государству: «женщину в президенты».
Феминизм ничего не говорит об экономике или практике принятия решений, что мешает говорить о нем как о самостоятельном политическом проекте. То есть либеральный феминизм предполагает капиталистические практики принятия решений и капиталистическую экономику. Также существует консервативный, государственнический, имперский и социалистический феминизм. Это может быть любой проект, к которому всегда можно добавить уточнение. В этом смысле феминизм недостаточен как политическое учение. Он в принципе не ставит перед собой такую задачу. Его главная задача — это интеграция женщины во что бы то ни было. То есть, в моем представлении, феминизм и анархизм относятся друг к другу как частное и общее.
— Помогает ли анархо-феминизму популяризация феминизма? Каковы шансы анархо-феминизма в условиях, когда успешность зависит от неолиберальной идеи?
Популяризации анархо-феминизма этот процесс помогает, лишь когда он не продвигает другие политические взгляды. Например, если феминизм не прославляет еще и экономический успех или президентство женщины. Все эти формы феминизма работают на создание некого благоприятного образа субъектной, активной, мыслящей и творящей женщины. И в этом плане это действительно хорошо — люди постепенно привыкают, что нет ничего безумного, если женщина будет выполнять какие-то непривычные ранее активные виды деятельности. Но при этом следует популяризировать также и либертарный проект.

В этом отношении феминизм, становясь популярнее, изменяет и общественный консенсус по поводу роли женщины в целом. Это может касаться и групп, которые выступают за анархизм. При этом популяризация феминизма не будет содействовать популяризации безвластнического образа мира. Женщины будут восприниматься обществом по-другому, но этого будет недостаточно, чтобы изменить присущий этому обществу принцип принятия решений. Необходимо сопровождать популяризацию феминизма популяризацией анархистких проектов на самых разных уровнях.
Мы понимаем, что анархо-феминизм — это некий предел безвластного, а его цель — это безвластие как таковое. Главная проблема популяризации анархо-феминизма в том, что, в отличие от либерального феминизма и других его течений, анархо-феминизм не дает ответов на все вопросы и четких инструкций, как изменить ситуацию.
Другие феминизмы говорят: «Делай так, и у тебя будет успех. Сделаешь вот это сегодня — завтра будет вот это. Сейчас ты делаешь вот так — потом ты становишься депутаткой». Когда есть рецепт, всем все нравится. Одна проблема: свобода не появляется из-за инструкции или плана. В идеологии нет места для вопрошания и размышления. Там нечего ставить под вопрос, нет возможности мыслить. А когда человек перестает мыслить, он превращается в зомби.
Это ровно то, чего анархизм не хочет. Вместо этого анархо-феминизм предлагает женщинам гораздо более эфемерные вещи: будущее, в котором они скорее всего уже не будут жить. Очень мало кому понравится посвятить жизнь тому, что они никогда не увидят и что сопровождается какими-то опасностями. С другой стороны, путь к подлинной свободе всегда сложнее, чем к видимой внутри нескольких правильных клише. Но у нас есть множество оснований думать, что все же он стоит того, чтобы его пройти.