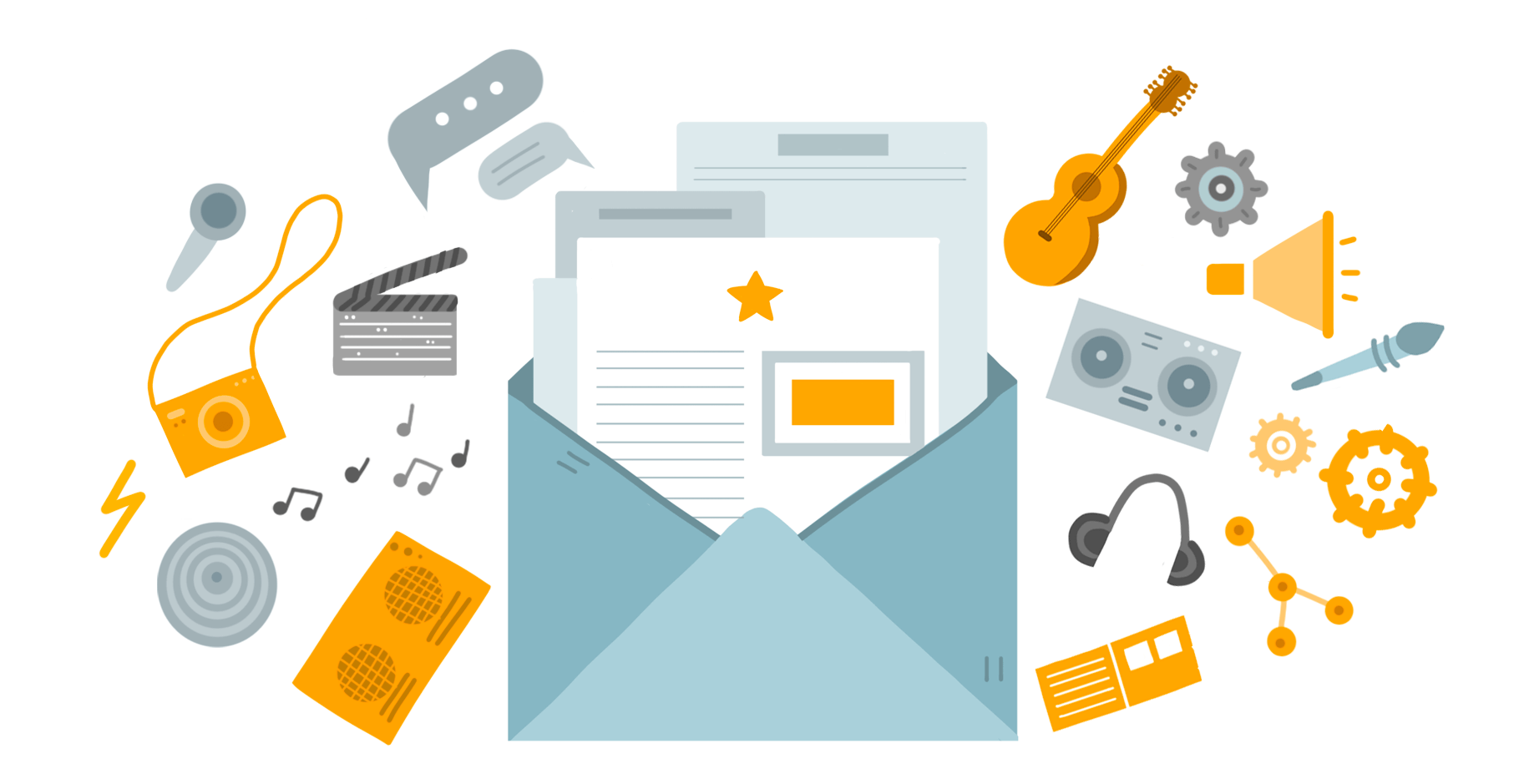Числа Фибоначчи

«В этом был весь Гройс. Сюжеты, идеи (и ещё какие!) сыпались из него, как горох из дырявого мешка. Он научился определять талант через имя человека! Он приручил числа Фибоначчи и овладел в совершенстве русской гематрией!!! И он точно напишет роман об этом!!!» / Иллюстрации: Катя Ганьшина
Два товарища-писателя из Петербурга прячутся от жары в рюмочной. Завистливый Гройс, к 45 годам опубликовавший один рассказ, упрекает Саныча, что в его последнем тексте «нет идеи». И, уходя в алкогольный заплыв, внезапно делится открытием: с помощью чисел Фибоначчи можно рассчитать формулу таланта. Согласно расчетам, Гройс настоящий гений, а его новый роман останется в истории литературы. Чем закончится попойка питерских интеллигентов и какая судьба ждет магнум опус Гройса?
Я вышел в июльский полдень, и сразу же утонул в топком зное. Брёл по улице, перебирая влажными руками тёплый кисель воздуха, и думал об одном — пива бы.
Оно манило за собой разными образами — набухало пеной в кружке, ледяной пахучей волной сползало по стенке бокала, щекотало ноздри запахом ядрёного солода. Преследовало неотступным призраком, только призраком ускользающим — в кармане шорт болталось два пятирублёвых медяка. Ни больше, ни меньше, гуляй, рванина Саныч…
Ситуация — ахтунг, так любил повторять Скок. Скок бы, впрочем, нашёл выход. Денег у него никогда не было, но они же чудесным образом всегда появлялись, если душа требовала полёта в рай. Эх, старина Скок, где ты сейчас-то?
Со Скока мысли скакнули к другим бродягам, с которыми я изредка пересекался на Фонтанке. Мытарь наверняка на даче в Комарово, Хохол давно уж пропал, а вот Вега вполне мог попасться у «Дикси». Значит, туда мне с моими медяками дорога.
Добравшись до точки, я опустился на корточки, облокотившись спиной о гранитный столбик набережной. Сверху по-прежнему жарило, хоть и куталось солнце в набегающие облачка, сзади полоскалась Фонтанка, гудели моторами плывущие туда-сюда катерки и шумела вокруг летняя толпа — жизнь неслась мимо безмятежным потоком.
О чём я думал там, застыв дурацким похмельным гномом в середине лета двадцать первого года?
О том, что стабильной работы нет второй месяц и деньги закончились с неделю назад? О том, что Олик, единственная ненаглядная, терпевшая мой характер аж целых пару лет, всё-таки стартанула подальше? О том, что отчаяние жизни перехлёстывало порой через край и единственный свет, надежду и веру давало бухло? Нет, друзья мои, ни о чём таком я и близко не думал. Я сидел на Фонтанной набережной и ждал.
Дождался в тот день я, правда, не Вегу, а Гройса. Он, несмотря на давящий жар, мчался вовсю на электросамокате. Объёмно-пузатый, но в то же время изящный (как ему это удавалось?), в застиранной джинсовой жилетке, бородатый и в тёмных очках на носу под панамкой — ох уж этот Гройс, плавно выпиливающий самокатные зигзаги в толпе. Красивый, воздушный, чего уж там, он завораживал.
Я отлип от набережной и бросился к нему, подрезав вялый автомобиль на проезжей части.
— Хей, дружище, здорово, — приветствовал я Гройса перед самым входом в «Дикси».
— Ого, — удивился он. — А я думал, Саныч, что ты присёл по мелкой уголовке. Давно уж не виделись…
— Да нет, что ты, с чего бы мне присаживаться? Где я и где уголовка.
— Ну, в общем, да, — согласился Гройс и кивнул на вход, дышавший приятной бакалейной полутемью. — «Беленькую»?
Я изобразил на лице всю ту скорбь, на какую был только способен в моём несчастном положении.
— Да ты понимаешь, тут такая тема: у меня в кармане десять рублей. Всего…
— Херово. Но не катастрофично. Держи транспорт и жди.
Уже через пятнадцать минут я трусил вслед улетавшему от меня на самокате Гройсу. Бежал, проклиная солнце, лето, кривые питерские переулки, себя-неудачника с пакетом в руках, где позвякивало. По такой жаре пить водку на улице ни в коем случае нельзя, поэтому мы решили найти успокоение в любой местной распивочной.
Угнездились по итогу в подвальчике с вывеской «Три карасёнка» — в нежной прохладе, в объятиях обволакивающе-дрожжевых ароматов.
— Ну, Саныч, рассказывай, — сгружая на столик четыре пузатых пивных бокала, потребовал Гройс.
— О чём это?
— О себе родимом. Сто лет не виделись…
Я вздохнул, показывая — вроде как, всё пипец. Но пока не полный, раз стою тут, с тобой за столиком в предвкушении вкушения.
— Давай-ка ерша оформим, — сказал Гройс, сгрызая пластик пробки с водочной бутылки.
И после первого тоста продолжил наседать:
— Так чего у тебя там? Не женился?
— С глузду съехал?
— Это правильно. Нам бабьё, это самое, не нужно, только помеха в жизни. Я это понял, когда с Таисией жил. А тебе даже в это говнище и соваться не нужно. Потому что ты человек творческий. А бабы и творчество — вещи несовместимые.
Внутренне оживлённый первыми глотками алкоголя, я жизнеутверждающе угумкнул.
— Пишешь-то? — со снисходительным участием спросил меня Гройс, и очки заскользили вниз по его потному носу, приоткрывая масляные каштановые глаза.
Я кивнул, неуклюже стирая с губ ошмётки пены. Вдаваться в детали не хотелось, но Гройс разве ж отцепится?
— А чего пишешь?
— Да так, всякое…
— Всякое — это какое? Кстати, тот твой последний рассказ, ты уж извини, Саныч, но полное говно. Говно и гонево.
Я снова кивнул, понимая, что теперь уж Гройса не остановить: прилип к любимой теме намертво. Ну, а что мне оставалось делать? Пиво-то он покупал. Да и водку. Значит, сиди и поддакивай, пускай выговорится.
— Не в том плане говно, что написано плохо. Писать-то, Саныч, ты умеешь, что и говорить. А в том плане, что идеи в рассказе нет. Понимаешь? А без идеи, сорри, текст нежизнеспособен. Он безжизненен. Идея, Саныч, — это жизнь.
— Хороший тост, — я улыбнулся. — Или вот так ещё: жизнь — это идея. Хорошая или плохая — решать человеку.
Гройс отчего-то разозлился.
— А ты не ёрничай, ёпт. Ты умных людей слушай. У меня опыта в литературе… сам знаешь. Короче, рассказ надо переписать, и я тебе даже сейчас скажу как.
Опыт у Гройса действительно был — главредом виртуального журнала «Литера». Точнее, Literra. Название, по мнению Гройса, тоже говно, ну так не он же придумывал, это было пожелание независимого издателя.
Издатель сам-то был, конечно, независимым, но привыкшим к тому, чтобы от него всё в жизни зависело. А Гройс зависеть ни от кого не умел, поэтому продержался в главредах всего два месяца. Ну, зато успел тиснуть пару своих рассказов… Старая история, впрочем.
Сейчас Гройс разошёлся так, что только один его голос гремел во всё пространство зальчика «Трёх карасёнков» (или карасят? как правильно?).
Рассказывал он, значит, что, если вытянуть с дальнего плана идейку про ушедшего в буддисты крипто-аналитика, связать его сексом с Натальей-закройщицей, а потом отпустить в романтическое путешествие в Самару (почему в Самару? ох, Гройс), то рассказ будет спасён.
Ну, с его точки зрения.
С моей же точки зрения, в том рассказе и так всё было неплохо. О чём, постепенно напитываемый алкогольной вольностью, я ему и сообщил.
— Рассказ похвалили даже в «Звезде». Пока, правда, не взяли. Но сказали, что очень хорошо, свежо так. Свежо по-питерски.
Гройс добил вторую кружку с ершом и нахмурился.
— Погоди-ка… В «Звезде» — это там, где на приёме текстов сидит эта молоденькая смазливая пиздёнка?
— Да не, там у них теперь бородатый мужик, забыл его фамилию… Но он, кстати, нормальный, я читал его тексты. Хорошая, крепкая проза.
— Проза-то у него, может, крепкая, но, посуди сам, разве хороший писатель будет протирать жопу в пыльном, никому не нужном журнале?
Тут я как-то поздно спохватился, что, вообще-то, это плохой ход в разговоре с Гройсом. Его история встраивания в официальный литпроцесс была катастрофично неудачной. Во многом потому что характером не вышел — был склочным, завистливым и мстительным. Не приживался нигде и ни на сколько, хотя пытался зацепиться за любую возможность. Всё без толку, давно уже никто из официальных литературных чиновников не хотел иметь с ним дело.
Бедный, несчастный Гройс, живущий в свои сорок пять с одним опубликованным рассказиком…
Да и где опубликованным? В каком-то независимом оккультном зине, давно уже растворившемся в тумане забвения (а я даже названия журнала не помню).
И пока я размышлял о причудливых зигзагах прозрачной до невидимости литературной судьбы Гройса, тот опять разделывал под корень весь адок петербургской литературной возни. О которой он, впрочем, как и я, судить мог исключительно по вяло искрящим время от времени срачам в фейсбуке.
Гройсовы размышления по поводу сложившейся в литературе ситуации я мог бы воспроизвести дословно, но после двух опрокинутых внутрь полулитровых «ершовок» слушать эту телегу было скучно. Поэтому, воспользовавшись трёхсекундной паузой в его монологе, я спросил:
— А сам-то ты сейчас что пишешь?
Вот это — беспроигрышный ход, который нередко выводил нас на интереснейшие (без шуток) разговоры. Тут, конечно, надо признать, что отчасти Гройс был нигде не печатаем в силу своей тотальной бездарности (однако, иным успешным деятелям литпроцесса это никогда не мешало, правда?) — ну, не чувствовал он русский язык, не владел им ни в полстрочки.
Литературную глухоту Гройс компенсировал грандиозной широтой воображения, и это тоже без шуток, без малейшего ёрничанья с моей стороны.
В сокровищнице его замыслов мелькали аховые сюжеты с привязкой к фантастике, истории, детективу, хоррору, мылодраме (именно так, через жирную «ы») и бог весть ещё к чему — всё с оригинальной, замысловатой, иногда нарочито трешовой фабулой.
Что и говорить, фантазёром Гройс был примечательным, и я даже не возьмусь пересказывать сейчас ничего из придуманного им — это бесполезно, это надо слышать, как говорится, в авторском исполнении.
Собственно, очередную Гройсову историю я и слушал, прихлёбывая новую порцию «ершовки».
— Знаешь, старик, — говорил Гройс, — я не то что пишу. Я уже написал, вот буквально пару дней назад закончил. Свой третий роман. Но, на самом деле, первый, в том смысле, что он пока что самый большой и самый главный из всего того, что у меня есть. Ты же понимаешь о чём я?
Разумеется, я понимал. Это что-то вроде магнума опуса — магистрального труда, к которому каждый творчески двинутый человек подготавливает себя всю жизнь. У меня такой пока что в задумке, к нему я и в мыслях аккуратно не подступал, не то что в реальности.
Но Гройс — каков, а? Он же неспроста оговорку сделал — «пока что». Пока что самый большой и главный роман написан, а потом, как знать, может, появится и что-то более крупное, мощное, значительное. Вселенское. Это всё, конечно, в его понимании, потому что, как я уже говорил, все грандиозные Гройсовы замыслы, красиво развёрнутые на словах, разбивались о полную беспомощность реализации. Вся проза Гройса сползала в невнятную сбивчивость полуграфоманского косноязычия — такая беда.
Тем не менее я его слушал, и ещё как внимательно.
Любая идея Гройса вполне могла бы пригодиться, — в будущем, не сейчас, а в том далёком, мерцающим неизменно прекрасном будущем, где я брошу пить, куплю себе домик на берегу какого-нибудь тёплого моря и засяду с ноутбуком, чтобы поговорить с вечностью всерьёз, по-настоящему…
— Роман называется «Числа Фибоначчи», старик, — уплывая вглубь своих мыслей, рассказывал Гройс. — Ты же знаешь, что это за числа? Ноль, один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать, ну и так далее. Сечёшь? Каждое следующее число — это сумма двух предыдущих. Очень крутая штука. В Европе эти числа подсветил Леонардо Пизанский, математик, по прозвищу Фибоначчи. Хотя их использовали до него ещё в Древней Индии. Короче, неважно. Фишка-то знаешь в чём?
Я даже и близко не представлял, в чём фишка этих чисел. Признаться, в математике я был полным нулём со школы, перебирался с двойки на тройку. И что там за числа такие раскопал господин Фибоначчи — не представлял и близко.
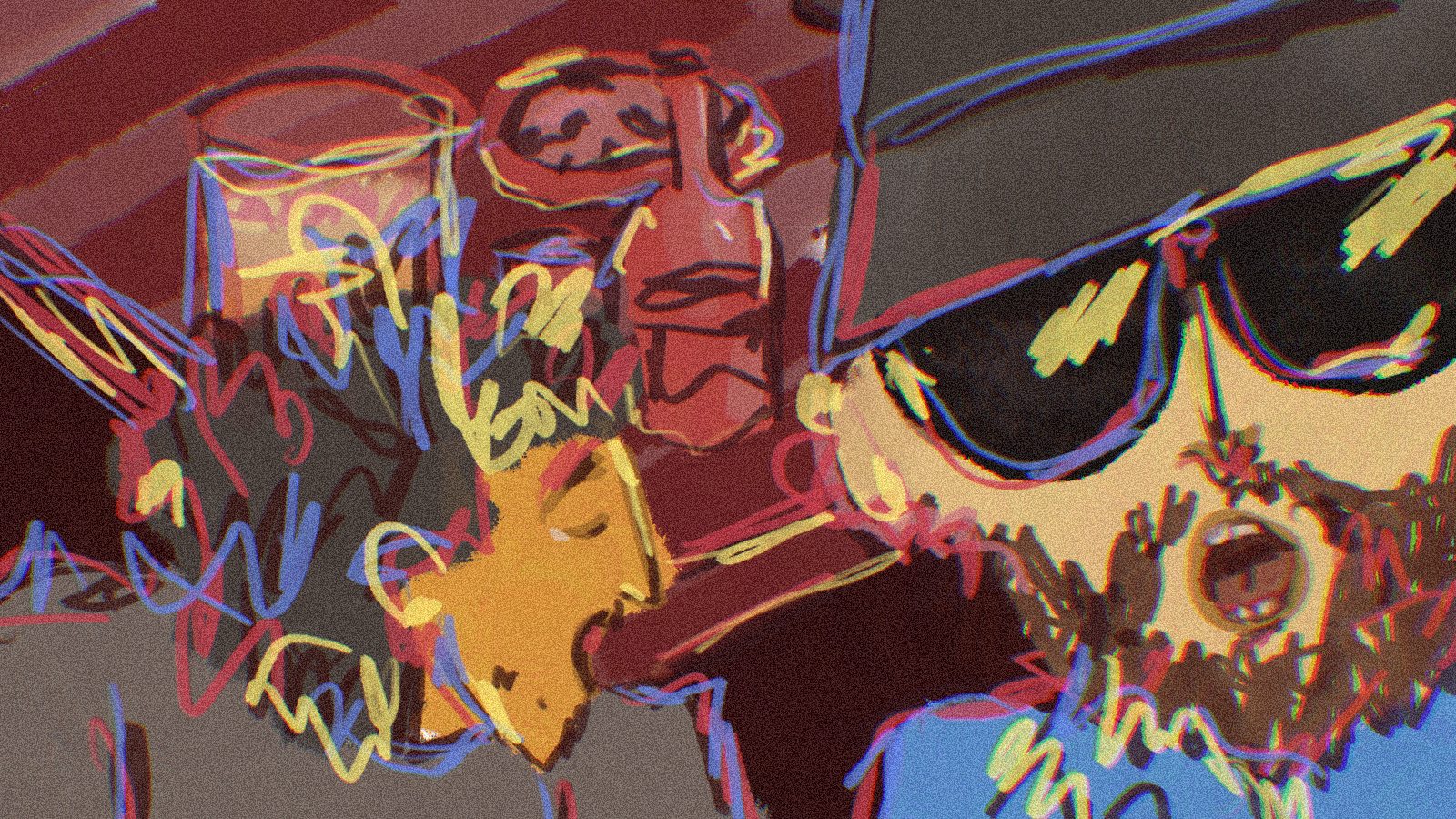
— Они везде, эти числа, старик. Чисто математически — это основа Вселенной. Золотое сечение, спираль ДНК, раковина моллюсков, всё вот это хуё-моё основывается на числах Фибоначчи. И до фига всего остального, ну то есть практически весь наш мир построен на этих грёбанных числах, понимаешь?
Нет, Гройс, дорогой, прости. Не моё это — математика, да и к тому же я уже основательно отплывал под алкогольными парусами в прекрасную страну, где не было проблем, где всё всегда танцевало цветными пятнами, приятно шумело и манило укачивающей грёзой бесконечного блаженства. Возможно, это самое блаженство тоже каким-то образом основывалось на числах Фибоначчи, это мне неведомо, замечательный мой Гройс… Однако, погоди, ты же разговор вроде начинал с романа?
— Так, а при чём тут твой роман? — спросил я, закусив свой неожиданный вопрос арахисовым орешком из блюдечка.
Гройс запнулся, глянул на меня как-то мутно, недобро, и всё же, видимо, решил довериться (люди мне вообще доверяют, такой уж я симпатяга, если честно).
— А я вот, Саныч, недавно раскусил через числа Фибоначчи формулу таланта. Сечёшь? Не только писательского — любого. Вообще. Разные люди разными же талантами обладают, верно? Кто-то там охрененно кулинарит, кто-то суперски лобзиком выпиливает, кто-то… ну там, фотографирует, к примеру. Всё это можно вычислить, в принципе, заранее. И знаешь как?
Я не знал, и близко не догадывался, поэтому кивнул Гройсу, как бы приободряя — жги, мне очень интересно.
— А вычисляется просто. Через имя-фамилию человека. Только тут к числам Фибоначчи прибавляется до кучи гематрия. Ну уж про гематрию ты-то точно в курсе, а, Саныч?
Гройс был определённо хорошего мнения обо мне, раз предполагал, что я знаком с гематрией. Гематрия — это ж, наверное, что-то близкое к геометрии? Один хрен, там же, где и прочая вся математика с числами Фибоначчи.
И хотя мне совсем уже расхорошелось в этой приятно кружившей вокруг распивочной «Три карасёнка», в распахнутых подвальных окошках которой перемещались слева-направо и справа-налево ноги уличных прохожих; и совсем не хотелось ни о чём думать, напрягая и так уставшую от жизни голову, но я всё-таки вежливо слушал Гройса. Слушал про то, что гематрия — это метод числовых символов, спрятанных у евреев в их ивритских словах, но, на самом деле, не только у евреев, а у вполне себе русских — тоже. Да и у кого угодно, хоть у индейского племени пираха, не в этом суть, старик, совсем не в этом.
— Суть в том, — гудел Гройс, прилипая к кружке с пивом, — что это могут быть самые разные сочетания имён и фамилий. Тут надо научиться только их вычислять. А для этого — придумать систему. И вот, Саныч, я придумал, на основе чисел Фибоначчи. Но, извини, старина, в детали вдаваться не буду. Могу одно сказать: она рабочая. Вот тебе крест — я научился через ФИО человека определять, талантлив он или нет.
И в этом был весь Гройс. Сюжеты, идеи (и ещё какие!) сыпались из него, как горох из дырявого мешка. Он научился определять талант через имя человека! Он приручил числа Фибоначчи и овладел в совершенстве русской гематрией!!! И он точно напишет роман об этом!!!
Я даже больше скажу… Впрочем, передадим слово Гройсу, уж в этом-то он был предсказуем на все сто:
— …а я проверил своё имя в связке с фамилией и отчеством.
Получается, Саныч, что в рамках разработанной мной классификации — я чертовски талантлив. Честно говоря, я слегка удивился полученной оценке… Нет, я, конечно, предполагал, знал даже, но вот чтобы настолько.
В общем, эта схема рабочая, поверь. Я написал роман, и он точно останется в истории русской литературы. По нему будут изучать наше время. Хотя оценить его смогут только потомки. А эти букахи в толстых журналах удавятся, сами себе харакири сделают, но в жизни не пропустят мой роман. И в издательствах так же. Огородят твердокаменной стеной игнора, и ты хоть об неё разъебись, но ни словечка не опубликуют!
Эту Гройсову телегу я слушал в «Карасёнках» ещё с полчаса. Потом, слава богу, к нам подсоединились местные мужички, и разговор утёк в более интересное русло — какое именно я уже толком не понимал.
Дальше вообще завертелась хорошо знакомая карусель — с пьяными вспышками приключений в памяти. Кто-то кого-то ронял с крутой деревянной лесенки, уводящей обратно в подвал. Угрожающе выл припозднившийся в белой ночи троллейбус. Бледный Гройс с криво висящими на носу очками аккуратно поблёвывал в урну. Малолетняя шалашовка била сумочкой чувака с фиолетовыми хлопьями волос. Грустный взгляд игрушечного щенка из-под витрины едва освещённого магазина прощался со мной минут пять, не меньше. Удивлённый Гройс грузно опадал через решётку заборчика в заросли палисадника.
Наконец, замелькал длинный и бессмысленный бег — от ментов вроде бы. Бег до исступления, до последнего колющего вздоха в груди, бег, который закончился на той же самой набережной неподалёку от того же самого «Дикси».
Тут карусель как будто слегка приостановила летящий круг вспышек, и я замер в моменте остывающего бытия — один-одинёшенек, с уполовиненной бутылкой пива в руке. Спустившись по лестнице на булыжную площадку, поближе к плещущей воде канала, я присел и вздохнул. Вздох получился лёгким, приятным, окрыляющим, потому что наполнял грудь ощущением всемерной гармонии. В неё вплеталось многое: и опрокинутое навзничь бледное небо со скорлупкой месяца, и запах тёплой обволакивающей гари, и тяжкие биты молодёжной дискотеки с ближнего моста, и много ещё прочего — по-настоящему питерского, по-настоящему родного.
Вобрав в себя мгновенно весь этот безумный и совсем обыкновенный вечер, я вдруг вспомнил о разговорах Гройса. Все эти числа Фибоначчи, чего бы они там ни значили, геометрическая гематрия имён, которая должна родить гениальный роман… Собственно, идея-то неплохая, подумал я, отхлебнув безвкусного пива, надо бы в этом разобраться, придумать свои, что ли, числа для своего романа, который в отличие от Гройсова будет читабельным. Да, ну, а почему бы и нет?
И осчастливленный ещё больше этим замыслом, я запрокинул голову, вытянул вверх растопыренную пятерню левой руки, в которую посыпались нескончаемым потоком цифры, цифры, цифры…
***
Роман я действительно написал. Получился он, правда, совсем не о числах Фибоначчи, не было в нём ни слова и о тех символах, которые выглядывают тенями из-за букв чьих бы то ни было имён. Роман получился о Насте, которая грустно умирала на моих руках пару месяцев спустя в Гатчине — вместе с ней умерла и эта рукопись, сожжённая в жадной топке камина. И как-то не жалко, я ещё напишу. Наверное… Правда, напишу.
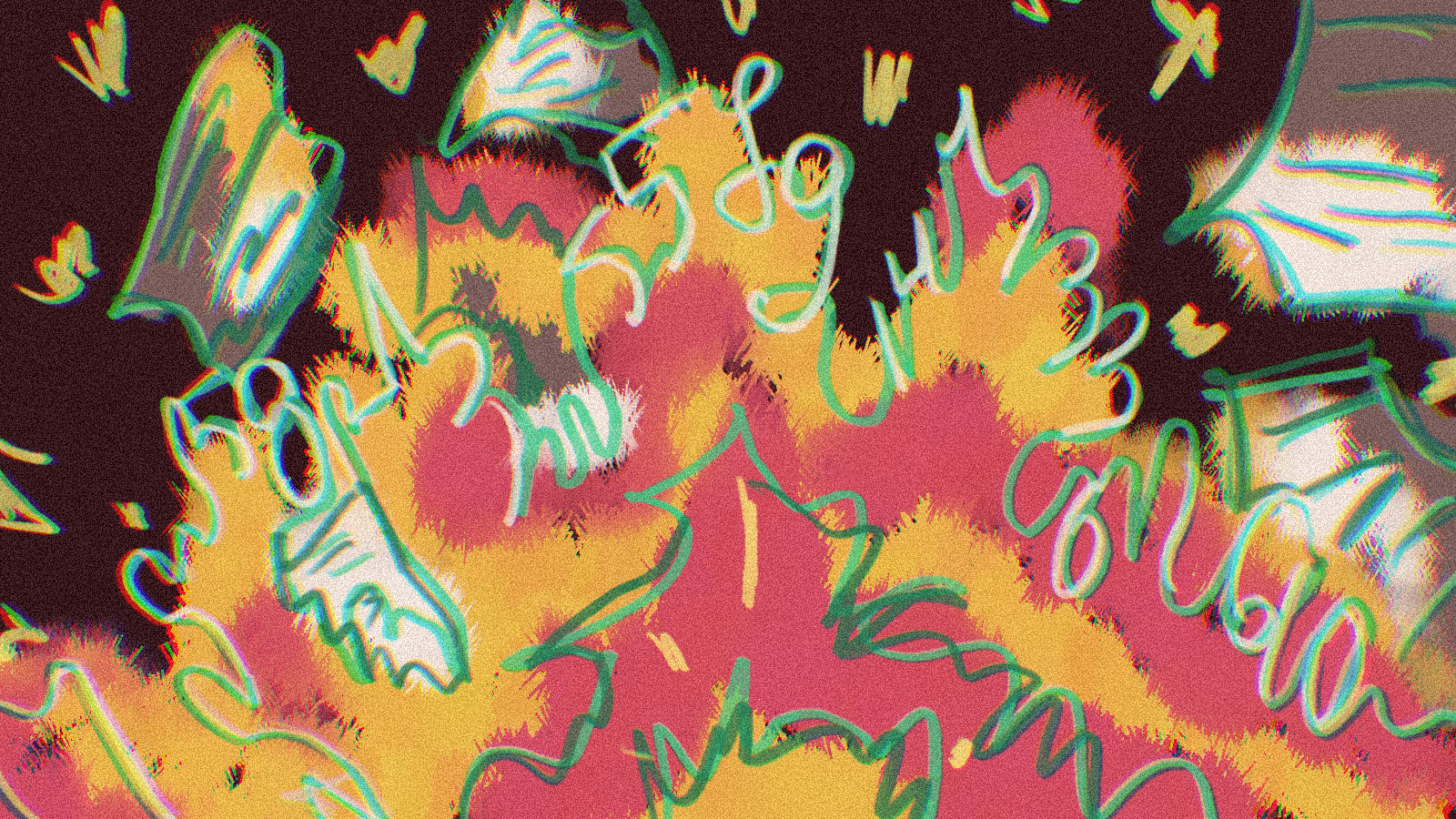
А роман Гройса неожиданно пошёл в рост. Не у нас, в Питере, а там, в Москве, конечно же. Потому что он туда переехал, старина Гройс, и по слухам, задружился с крупным писателем, имя которого уже вгравировано сусальным золотом в монолит большого русского литературного канона. Десять тысяч экземпляров на стартовый тираж дебютанта, шорт-лист «Большой книги», лоснящаяся морда новоиспечённого таланта в интервью с Шаргуновым — вот что дали «Числа Фибоначчи» Гройсу.
Я читал эту книгу — там всё очень плохо, ничуть не лучше, чем в те худшие депрессивные питерские деньки, когда Гройс зачитывал мне чего-то по тошным разливухам. Я читал его роман, пытаясь на листочке бумаги разгадать тайну дара Сергея Леонардовича Гройса, но всё без толку. В пощёлкивающем камине догорали листы моей рукописи, а под столом по холодным ногам лезли, противно щекоча, числа, числа, числа…