Глобальные общественные перемены рубежа XX–XXI веков повлияли на эмоциональное мироощущение человека в культуре, воскресив интерес к чувствам индивида. В искусстве в ответ на циничную иронию и отстраненность постмодернизма появилась «новая искренность», переосмысляющая внутренний мир персонажа. Возродилась ценность интимного переживания, вернулся автор, а вместе с ним — аутентичный личный язык героев.
В российской литературе важным элементом гуманистической трансформации стала проза Линор Горалик, глубоко проникающая в чувственный мир человека. На примере творчества писательницы журналист и литературный обозреватель Степан Кузнецов рассказывает, почему переживания отдельного человека стали вновь важны в искусстве, как культура и философия на протяжении сорока лет пытаются вербализовать гуманистический сдвиг, зачем Горалик превращает ультракороткие рассказы в психологические трагедии, почему она осмысляет травму Великой Отечественной войны через призму фантастики и как возвращает индивиду право на голос.
Новый гуманистический поворот
Ещё сорок лет назад в академических статьях и культурной среде стали появляться разговоры о новой масштабной трансформации культурной парадигмы и чувственности. В 80-х художник Дмитрий Александрович Пригов активно использовал термин «новая искренность» как антитезу идеологическому языку, предлагая вернуться к традиционному «лирико-исповедальному дискурсу». В литературе эту идею развивал автор «Бесконечной шутки» Дэвид Фостер Уоллес в ответ на засилье иронии в прозе; научным осмыслением феномена занимаются, например, славистка Эллен Руттен и литературовед Мэттью Баллиро. Руттен рассматривает этот феномен как способ преодоления травмирующего опыта «советского» в России, а Баллиро утверждает, что «новая искренность» — независимая от постмодернизма часть постмодерности, при которой текст и читатель стремятся преодолеть фрагментацию, отстраненность и запутанность, перестроить разрывы между собой в различимое целое.
Всё популярней стало обращение к малым повествованиям, что неразрывно связано с крахом больших нарративов, а затем — с воскрешением субъекта, когда он стал рассматриваться как продукт дискурсивной среды или практик в позднем постмодернизме. Предложенная философом Робином ван дер Аккером и исследователем медиа Тимотеусом Вермюленом теория метамодернизма указывает на глобальные социальные и политические перемены в мире на рубеже тысячелетий, которые изменили эмоциональную основу мироощущения современного человека, так называемую «структуру чувства». Аккер и Вермюлен настаивают на том, что современный культурный дискурс раскачивается между «энтузиазмом модернизма» и «цинизмом постмодернизма». Хотя тезисы метамодернистов популярны больше у практиков, чем теоретиков искусства, а сам этот термин уже успел набить оскомину, действительно складывается ощущение, что доминирующая структура чувства после эпохи постмодернизма изменилась.
Но слова для её описания ещё только подбирают.
Определенное изменение атмосферы ощутимо и в отечественном контексте: не может остаться незамеченным тот гуманистический поворот, к которому обратилась современная русская литературная сцена. Гуманистическим его делает придание ценности обыденной человеческой речи, личному воспоминанию, интимному переживанию, которые девальвировались в постмодернистской и авангардной литературе.
Этот поворот — воскрешение субъекта — уходит корнями в поздний постмодернизм и продолжается в мультикультурализме, где осмыслялся его гибридный субъект, и феминистской литературной критике, ставящей вопрос о специфике женского письма и его создательнице соответственно. «Новая искренность» как термин из 80-х стал синонимом постконцептуализма и по-настоящему громко зазвучал на рубеже веков — так в критике обозначилась линия авторов, двигавшихся против главного течения советского постмодерна — концептуализма — в сторону любви к омертвелым, сведенным к штампам языкам и их вызволения из состояния отчуждения. Кажется, что сегодня истории рядового носителя таких языков — истории о переживании исторических и личных травм вызвали взрыв интереса и скандалы не меньшие, чем в тех же перестроечных восьмидесятых: это и дискуссия вокруг дебютного романа Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», и скандалы в год столетия Солженицына, и Нобелевская премия Алексиевич, ещё раз обнажившая раскол общества на «державников» и «демократов». Но если в перестройку акцент делался на снятии покровов с факта исторической катастрофы, то в наше время реабилитируется именно чувственность.
Проза Линор Горалик как пример культурной трансформации
Звучное имя Линор Горалик если не известно, то уж точно когда-то мелькало в информационном потоке даже у людей, далеких от современной русской литературы. Многие знают Горалик как маркетолога, слушали лекции по теории моды, проглядывали между делом её статьи в Букнике или смеялись над колкостями депрессивного Зайца ПЦ из её комиксов. Наибольшим же авторитетом имя Линор Горалик пользуется именно в литературном контексте, а её проза становится значимым элементом в системе гуманистического поворота.

«Мойра Морта мертва» — новая книга Горалик, собранная из уже опубликованных коротких текстов — если не всех, то большей части корпуса. В книге четыре части, отличающиеся жанрами: очень короткие тексты «Короче» с беспристрастным и почти что всеведущим авторским голосом в повествовании; фантастический рассказ «Мойра Морта мертва»; построенный на сюжетах, взятых из криминалистических задач «Учебник» и повесть «Вроде того», состоящая из тринадцати не связанных между собой реплик анонимных персонажей. Проза Горалик с первых строк привлекает чуткостью к повседневным жестам и тихим будничным репликам. Но тексты эти — не гимны невинности и непосредственности. В них есть драма, нерв, какая-то червоточина, которая задерживает читательское восприятие и создает интригу.
Тексты первого блока «Короче» тоже жанрово и нарративно разнообразны и предлагают множество непохожих друг на друга стратегий чтения. Здесь есть и образцы ультракороткой flash-прозы, и напоминающие стихотворения в прозе тексты, и полноценные новеллы. Горалик использует содержательные элементы мистики, фантастики, психологического детектива, бытового анекдота, подчиняя их художественным целям текстов. Что-то можно при желании прочитать максимально прямо, вживаясь в сложные психологические состояния персонажей, а где-то эти персонажи будто бы встают в замысловатые аллегорические фигуры. В одних текстах стоит больше всмотреться в детали и то, что за ними кроется, а в других — обратить внимание на то, как переосмысливаются жанровые вкрапления.
В первой части книги повествование часто ведётся от третьего лица — внешний (недиегетический) нарратор озвучивает и комментирует действия персонажей (часто безымянных, низведенных до «он» и «она»), но не генерализирующих целей ради, а наоборот, для того чтобы глубже воспринять казалось бы банальные истории. Вот один мужчина борется с кротами, и к концу сюжета борьба становится психологическим испытанием его характера, в ходе которого и в кротах обнаруживается нечто человеческое («Норные»); вот женщина целует свои руки, желая возвратить то ли потерянную любовь к себе, то ли память о близких («Вот такая»); вот мальчик берёт в привычку слушать незнакомцев за дверью, получая удовольствие скорее от самого подслушивания, а не содержания диалогов («Дверь в стене»).
Читательский взгляд занят не только реконструкцией контекста этих коротких историй, но и тем, как в сюжете у, казалось бы, банальных и бытовых ситуаций просвечивает второе «небанальное» дно: глубина внутреннего мира персонажа или острота его переживания. В этом и заключается пафос книги — обратить внимание на сдвиги в часто обесцениваемых проявлениях будничной чувственности. Нередко Горалик обрушивает ожидания, сводя бытовую сценку к психологической трагедии. Так, давно ставший предметом шуток поход в «Икею» оборачивается выбором кровати для смертельно больного родственника («По-человечески»), а комичное переедание в ресторане оборачивается реакцией травмированного сознания на смерть отца («Ещё ложечку»). Впоследствии читатель ищет подвох и пристальнее всматривается в детали даже в тех текстах, где никакого переворота не происходит.
Герои историй Горалик выглядят заложниками своих иррациональных состояний, особенно это видно в их попытках вербализировать свои ощущения: неустроенно, неловко и нелепо звучит несовпадение между внутренним состоянием персонажа и его артикуляцией. Врач пытается урезонить мать больного, но его реплика выдает полную растерянность («Как идиот»), болезнь пробивает свою жертву на жутковато-смешную песенку («Соло»), чувство в момент апокалипсиса профанируется до бытовой фразы и тем самым обнажает свой ужас («Нет никого»). На подобных амбивалентных, «намекающих» эстетических эффектах и строится интрига текстов: психологические зазоры, не проговоренные пропуски если не занимают зримое центральное место, то становятся тайными ключами, пропажа которых зияет в нарративе.
Естественно, ориентироваться нужно не на нахождение, так как оно никогда не окончательно и достаточно, а на процесс поиска.
Рассказ «Мойра Морта мертва», как и один из последних романов Горалик, предлагает фантастическую ситуацию, с помощью которой может быть прочувствована главная болевая точка в истории России — Великая Отечественная война. В этом рассказе Горалик позволяет языку выглядеть более вычурно. Этого требует сюжет о жизни трех богинь судьбы среди невзгод войны советском городе — сюжет, вынуждающий больше оглядываться на литературную традицию. В рассказе все три богини с плутовскими повадками. Здешняя Морта — капризная карлица, а Нона и Децима — помыкающие ею долговязые мымры.
Три сестры живут в неуязвимом для бомб доме в Ленинградской области и выполняют свои обязанности: прядут нити судеб и тем самым контролируют жизни и смерти вверенного им прибалтийского городка. Призванные вершить судьбы, они сами попадают в переплет после того, как Морта нелепо погибает, и её приходится заменить инвалидом войны, косвенно виновном в её смерти. И боги, и убогие становятся на один уровень перед лицом катастрофы. Горалик сталкивает аллегорическое и реальное, смешное и жуткое на фоне Второй мировой. В этой фантасмагории зловещий абсурд войны предлагается вместо классического дискурса о героях, суждение о непредсказуемости судьбы — вместо античного предопределения, а бытовая коммуникация — иерархии небожителей и смертных. В рассказе Горалик как бы иллюстрирует тезисы, данные в эпиграфе: судьбы возникают только в переплетении, один человек «становится судьбой» другому.
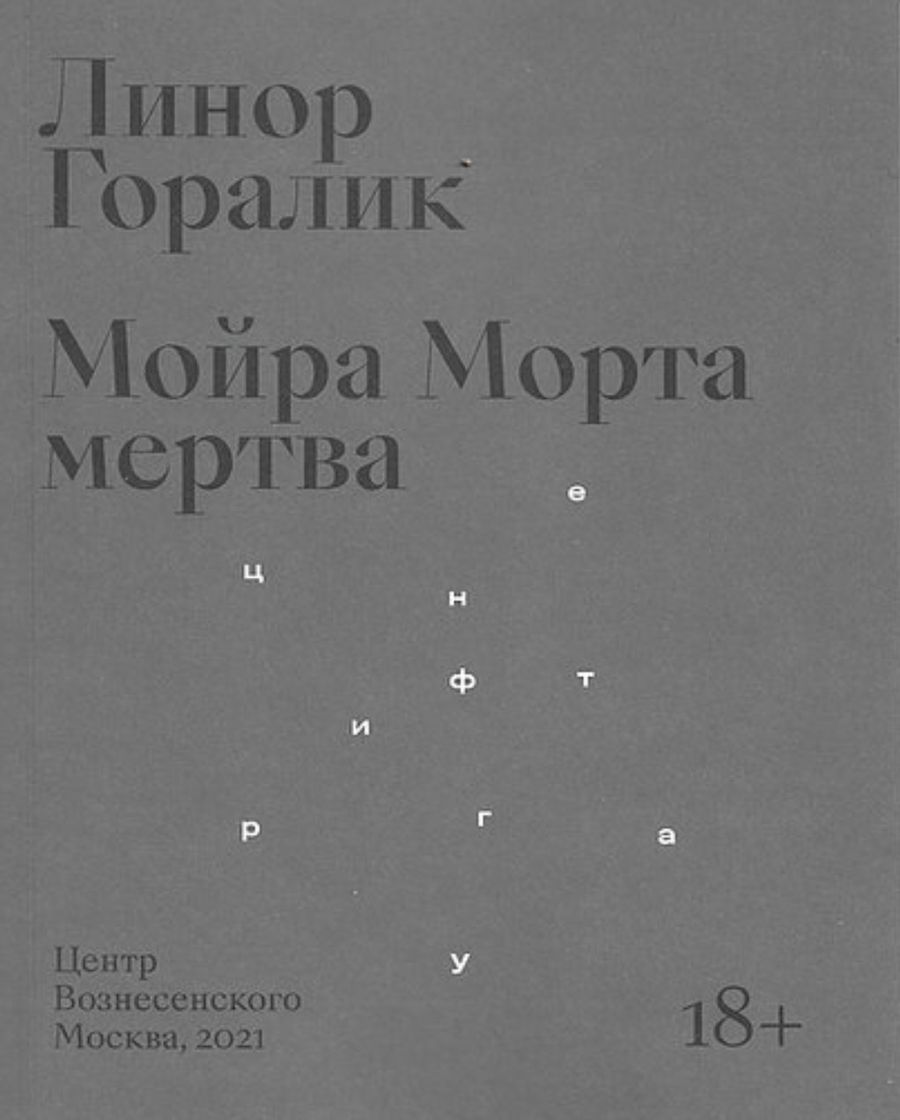
«Учебник» следует тем же тезисам, но ремесленность текста делает его менее объемным. Построенное как склейка из задач по криминалистике, это полотно обладает очевидным пафосом — показать из пересекающихся судеб цепь страстей человеческих, которыми окутаны и дворцы, и хижины России. Схема склейки выглядит следующим образом: некто А совершил действие, затронув Б, Б совершил поступок в отношении В и т. д. Такая механическая конструкция и присутствующая в задачах аура неподлинности становятся ощутимыми барьерами для читательского доверия к этому тексту, если рассматривать его в общем контексте всего сборника. Возникает подозрение, что «Учебник» основан на одном приёме, ради этого приёма и им же исчерпывается. Содержание блоков между связками не поддерживает целостность цепочки дальше одного шага, но в каждом из них рассказывается история человека, совершившего правонарушение в результате аффекта: кто-то крадёт флаг «в пику исламским террористам», кто-то опечаленный семейной драмой идёт на нарушение профессиональной дисциплины и так далее. Финальное восклицание нарратора «Как же нам всем быть?» причисляет к страждущим, метнувшимся от долга к чувству героям и себя, и читателя.
Заключительная повесть «Вроде того», состоит из голосов, вещающих о судьбах человека в период Второй мировой войны. Правдоподобные свидетельства перемежаются с фантастическими и нереальными событиями, так что повесть постоянно колеблется между серьезным и ироничным, смешным и жутким. В воспоминания могут вплетаться маргинальные нарративы. Героиня одной истории подобному святому из агиографии терпит кораблекрушение, созерцает «морских тварей» и чудесно спасается благодаря им, герой другой, как в мистической байке, подвергается магическому ритуалу, третий же конструирует летающее кресло и пьет с «Хендриксом». Ремифологизация истории в повести не критикуется, наоборот, в ней видно главное — пристрастность рассказчика. Главным действующим лицом здесь оказывается не столько сам участник событий, а тот, кому это свидетельство было как-то передано, через вторые или третьи руки, тот, кто с помощью пересказа сам пытается пережить и вчувствоваться в случившуюся историю. Это переживание просвечивает на обочинах будто бы будничных повествований. В этом смысле повесть Горалик — закономерное продолжение обозначенной выше тенденции осмысления исторических и личных травм. Теперь уже не свидетели событий формулируют мнемонический нарратив, а их потомки по-своему пытаются освоить их наследие: наивно, ответственно или иронически. Для этой цели не так необходима серьезность тона и референциальность сюжета, важнее выделить нечаянно проговоренное в искаженном повествовании.
Книга Линор Горалик получилась достаточно последовательной в своем послании. Называть ее прозу метамодернисткой будет слишком претенциозно, постконцептуалистской — уже запоздало. Но в аксиологическом плане она во многом близка поборникам Новой искренности. Писательница на свой лад возвращает человеку его непрозрачность, право на голос, зримость в истории и, что видно по содержанию, не устает расширять инструментарий для отстаивания этих ценностей. В целом же это достаточно разностороннее собрание и для того, чтобы представить спектр прозаического таланта Линор Горалик.












