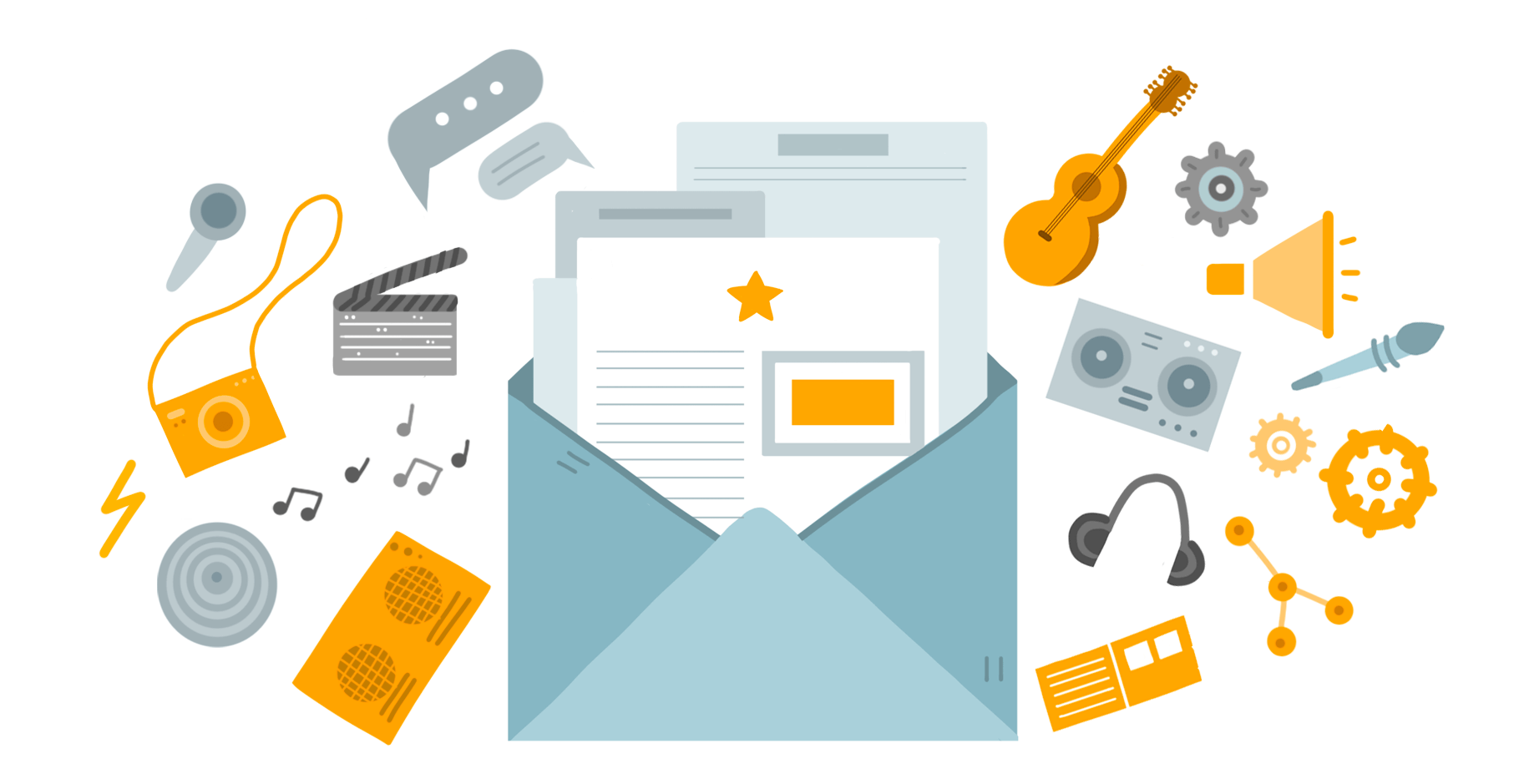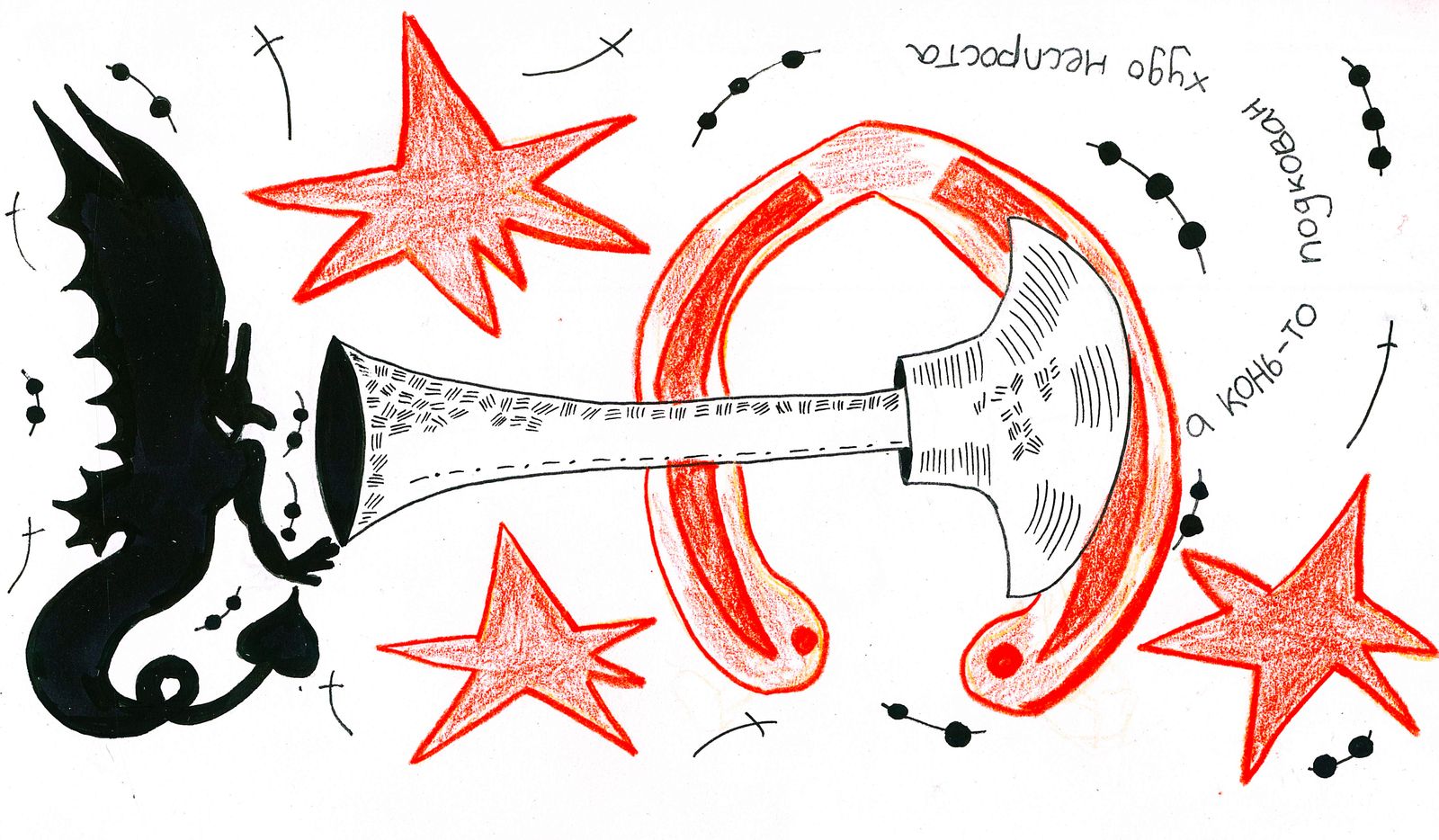Однажды на князя Константина напала страшная хворь — его врожденное недоверие к миру превратилось в настоящую одержимость. Оказавшись в стане врагов, он обратился к уважаемому профессору Готтлобу, который преподнес ему необычный дар — длинную деревянную трубку.
В небольшом рассказе «Стетоскоп» Ары Чалым узнаем, каково это — жить в кругу недоброжелателей и шпионов — и какое лекарство действеннее всех спасает от недуга мнительности.
Уезжая, профессор Готтлоб преподнёс в дар светлейшему князю Константину Михайловичу длинную деревянную трубку — новейшее европейское изобретение.
— И помните, Ваша Светлость, — наказывал прославленный профессор, — этот инструмент раскроет без труда, кто Вам друг, а кто Вам — недруг. Ни о чём больше не беспокойтесь.
Константин Михайлович трепетно принял богато украшенный футляр с напоминавшим флейту прибором внутри.
— Пусть Вас не смущают его простые формы, — не без гордости добавил герр Готтлоб, сложив руки за спиной, — ведь главное — функциональность.
— И что же мне дальше делать? — аккуратно вытащил статный старик диковинную трубку с широкими воронками на концах.
— Слушать. Слушать и слышать, Ваша Светлость!
Откланявшись, учёный покинул имение Черёмухиных.
Константин Михайлович всегда отличался особенной осторожностью, — не зря возглавлял министерство полиции, — но в последние годы его врождённая мнительность превратилась в одержимость. Светлейшему князю везде чудились враги, отравители, шпионы и убийцы, желающие ему горя и скорейшей смерти, поэтому, как человек, почитающий науку прежде всего, он спросил совета у уважаемого им профессора Готтлоба. Знатный немец, прибыв аж из самой Швейцарии, внимательно выслушал его жалобы с невозмутимым видом и в конце их беседы подарил загадочную трубку.
Первой светлейший князь подозвал кухарку: та всегда на него как-то недобро поглядывала, когда он давал указания относительно еды. Евгения, единственная дочь Константина Михайловича, уверяла, у бедной женщины косоглазие, она не скрывает злого умысла, но глава семьи оставался непреклонным.
Черёмухин, приняв пожилую служанку у себя в кабинете, торжественно вытащил из футляра устройство: один конец трубки приложил к её затылку, а второй — к своему уху. Какое-то время ему слышались лишь неразборчивые шумы да шорохи, но вдруг померещился скрипучий голос по другую сторону:
«А перепел-то к обеду худой, беда в нём».
С тех пор кухарку Агафью у Черёмухиных никто не видел.
Следующим пришёл поклониться на персидском ковре в комнате у Константина Михайловича конюх Егорка. Инструмент, приставленный ко лбу широколицего молодца, тихо гудел:
«А конь-то подкован худо неспроста, беда господину».
Егорку постигла та же участь — отправили с глаз долой.
Камердинер, горничные, дворник покинули поместье вслед за ним.
Писарь Кравчик, трижды в неделю привозивший в имение канцелярские бумаги для срочной подписи, служивший светлейшему князю больше пятнадцати лет, не пришёлся по нраву Черёмухину своими взглядами на польский вопрос — в них он углядел не только государственную, но и личную угрозу. Духовник семьи Феофан в мыслях укорял дворян за чрезмерную роскошь — Константин Михайлович угадал в этом зависть и потенциальный мотив для грабежа. Брат Александр, любимец семьи, тайно планировал присвоить его должность в министерстве — так сказала трубка; светлейший князь подобного простить не мог, поэтому быстро придумал, как того отослать на Кавказ, будто бы по важному делу. Дети не избежали участи предшественников: светлейший князь усмотрел вызов его авторитету в чересчур либеральных идеях старшего сына Петра и в желании Евгении получить высшее образование.
Матвей, младший сын Константина Михайловича, вернулся в заброшенное поместье Черёмухиных поздним сентябрём. Целый год он пропадал на Востоке, путешествуя вместе с археологической экспедицией, поэтому ничего не знал о помешательстве отца и крайне удивился, когда дворник не открыл ему главные ворота. Будучи человеком находчивым, юноша пролез между прутьев задней калитки, сорвал спелое яблоко с измученного неубранными плодами дерева и направился по заросшему саду к чёрному входу прислуги. В когда-то процветавшем доме Матвея встретили только пыль да паутина. В коридорах стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь гулом его шагов и хрустом надкусываемого яблока.

Дверь в кабинет отца оказалась забаррикадированной мебелью — пришлось идти в обход через малые спальни, там располагался общий балкон. Наконец проникнув в главную в имении комнату, молодой Черёмухин обнаружил посреди страшного бедлама исхудавшего старика в потрёпанном халате: тот сидел на бордовом французском канапе, обнимая одной рукой чучело орла, а в другой держа деревянную трубку Готтлоба.
— Ну вы даёте, папенька, — не церемонясь, Матвей с досады кинул огрызок яблока прямо на персидский ковёр. — Стоило мне только на год отлучиться…
Вместо ответа Константин Михайлович приложил один конец трубки к своему уху, а другой — к голове благородной птицы.
— Только у него чисты помыслы — ничего плохого не слышу, — прошептал куда-то в сторону светлейший князь.
— Конечно, не слышите, он ж мёртвый, — вздохнув, сын приблизился к старику. Юноша аккуратно забрал у него чучело, поставил подставку с орлом на пол, а затем взял отца за холодную руку. У того не нашлось сил сопротивляться: старший Черёмухин посмотрел в ответ на него невидящим взглядом.
— Что с вами стряслось, papa? — Матвей коснулся пальцами его лба, но не почувствовал жара лихорадки. — Где люди? Где Женя, где Петя?
— Враги… Кругом враги… Все — враги… Герр Готтлоб подарил прибор… чтобы понимать… кто — друг, кто — недруг… — будто в бреду бормотал Константин Михайлович, покачиваясь из стороны в сторону. Светлейший князь, придвинувшись к младшему сыну, выставил вперёд трубку. — Мысли… Нужно послушать твои мысли…
— Мысли? — опешил Матвей. Несмотря на юный возраст, он многое повидал благодаря своим поездкам, поэтому почти сразу признал в загадочной трубке стетоскоп. — Папенька, этим не слушают мысли, — приставил молодой человек воронку на конце инструмента к своей груди. — Стетоскопом слушают сердце. Убедитесь сами.
Константин Михайлович не сразу приставил ухо к трубке: его раздирали сомнения, однако одного взгляда на любимого сына, на его загорелое, обветренное и так повзрослевшее за год лицо хватило, чтобы набраться решимости.
С другого конца раздавалось лишь слабое: «тук, тук, тук».
— Там… Там только «тук, тук, тук», — отстраняясь, хрипло заметил отец.
— Конечно, — улыбнулся Матвей, крепче сжав его тощую руку, и продолжил почти в стихах. — Тук, тук, тук: сердце бьётся — значит, друг.