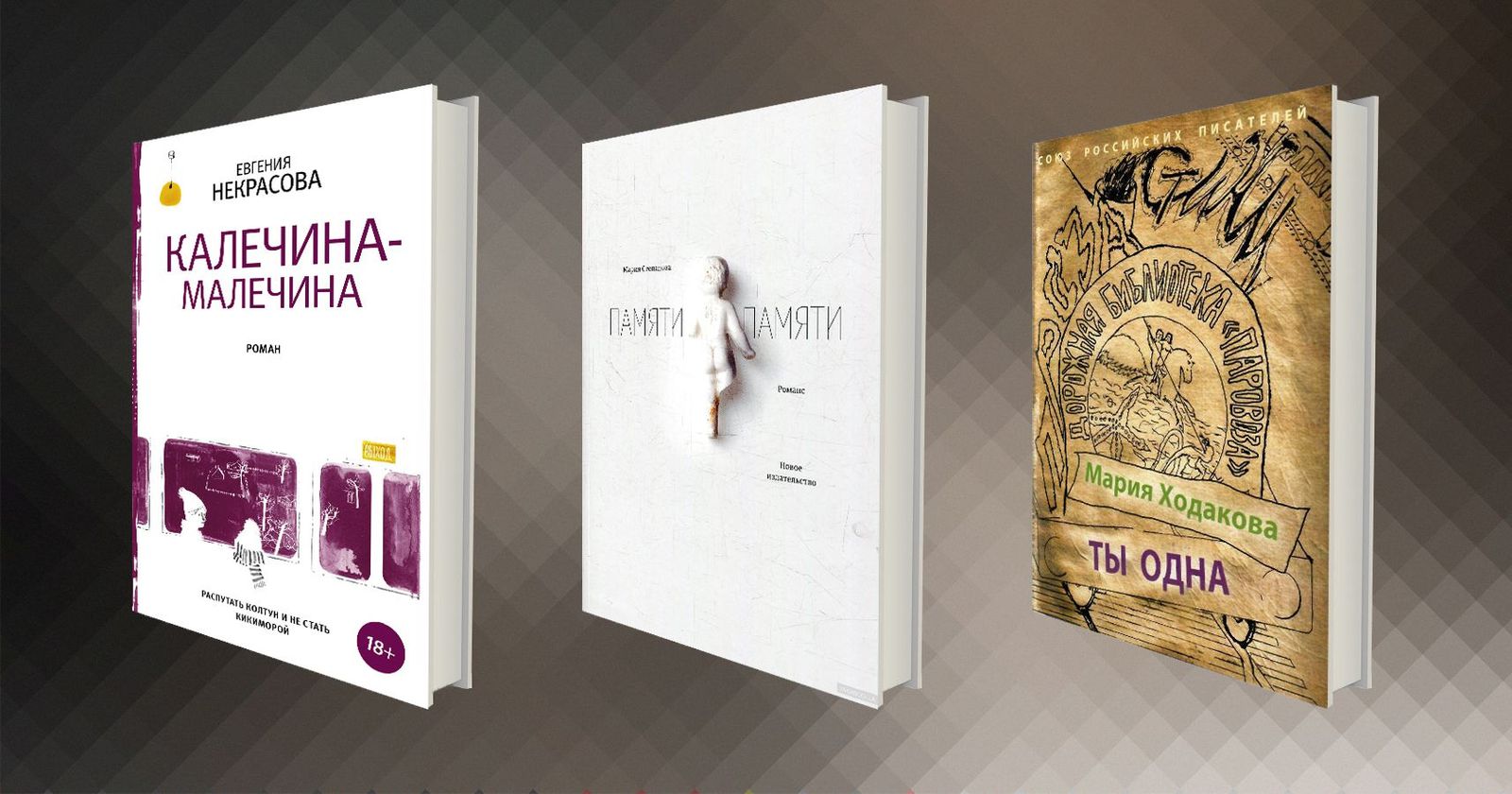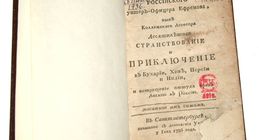Поэтесса, писательница и литературный критик Фаина Гримберг специально для Дискурса рассказывает о трех новых книгах про женщин, написанных женщинами.
Мужчины пишут как мужчины. Женщины пишут как женщины. Три современные российские женщины-писательницы написали — каждая — по книге. По книге, каждая из которых стоит разбора.
Евгения Некрасова «Калечина-Малечина»
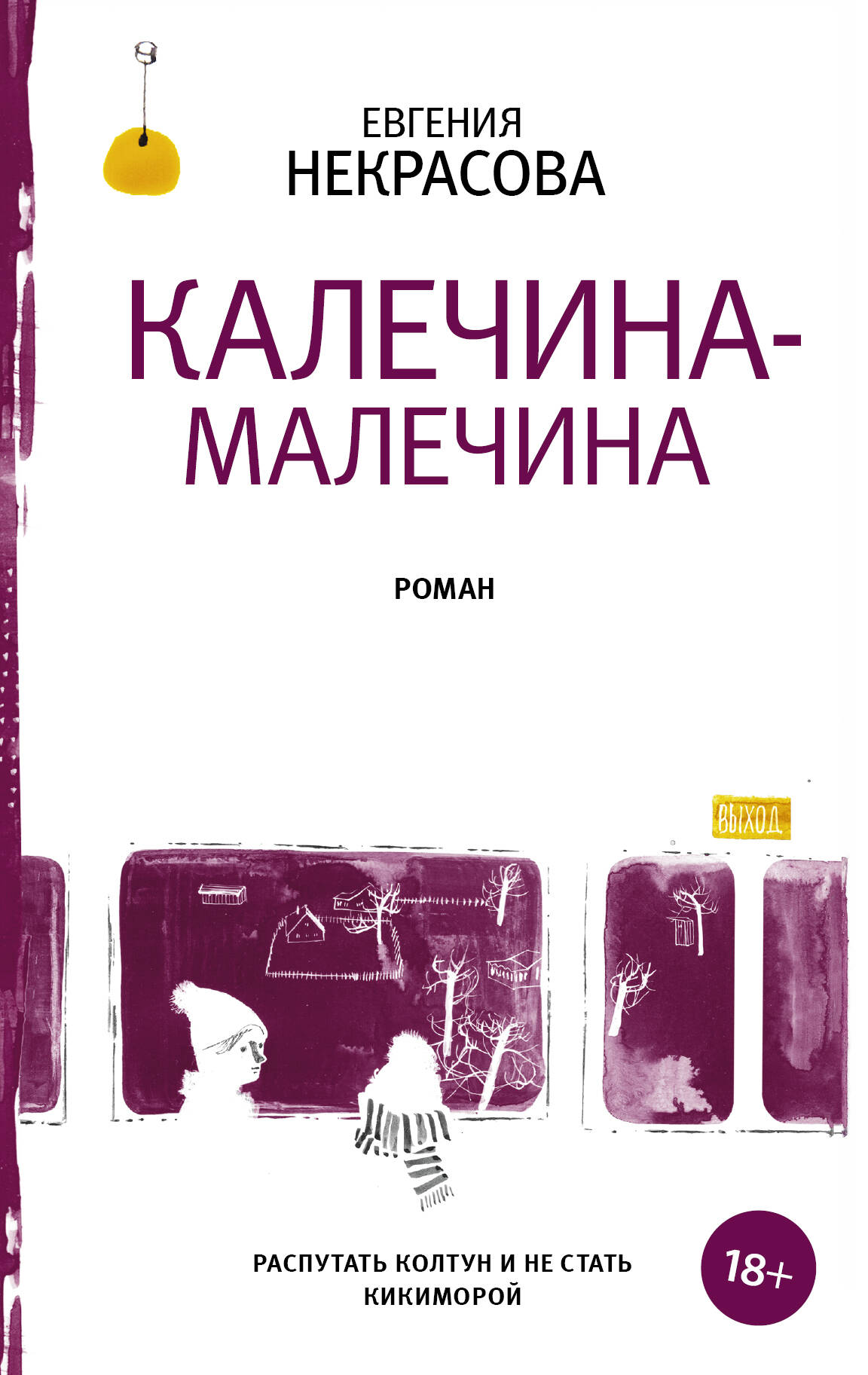 Желающие рекламировать роман Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина» явно оказали роману и писательнице медвежью услугу, утверждая, что роман — в одно и то же время — похож на… произведения Гоголя, Ремизова, Петрушевской и Венедикта Ерофеева. Ах да, и на известное — «Над пропастью во ржи». Тут на моё лицо наползает язвительная улыбка и припоминается напиток Алисы в Стране чудес со вкусом жареной индейки и сладкого творога. Конечно, ни до кого из вышеперечисленных авторов молодая Некрасова не дотягивает, да и ни о каком серьезном «влиянии» классиков на скромное повествование под названием, взятым из милой потешки Ремизова, речь не идет. Но сначала думаешь: «Книга неплохая. Женская книга. Правильно, что женщина решила написать о детстве девочки…» Однако… Ну, конечно, писать о счастливом детстве вроде как неинтересно, «Детство Никиты» на Евгению Некрасову этого пресловутого «влияния» не оказало. Детство ее героини Кати — скучное и переполненное мелочными обидами. За Катины обиды жестоко и несправедливо мстит сверхъестественное существо Кикимора. Ну и что? А вот что: роман Евгении Некрасовой вдруг раскрывается, как ларчик из сказки. А в ларчике — набор для леди (по аналогии с тем самым джентльменским набором), то есть целый комплекс прозрачных до невозможности отсылок к феминистским идеям. Мама заплетает Кате косичку (ага, патриархальный символ женственности), и скромная процедура плетения девчоночьей косички превращается под пером Некрасовой в настоящую пытку. Ретроградная учительница Вероника Евгеньевна желает воспитывать девочек как именно девочек, а мальчиков — как мальчиков, и даже хочет научить вверенных её попечению детей танцевать патриархальный танец вальс! Веронике Евгеньевне противопоставлена «передовая» Ольга Митяевна, мать-одиночка, читающая детишкам сочинения Оскара Уайльда. Под влиянием (о, вот и влияние!) Ольги Митяевны Катя начинает мечтать о семье, где не будет папы. Так, чего еще не хватает в этом «наборе для леди»? Ну конечно, пресловутого «мужчины-насильника». Зимой на даче Катя пытается заставить дядю Юру отдать ей деньги, которые, как она полагает, он должен её отцу. И дядя Юра что? Угадали. Пытается Катю изнасиловать. И тут вмешивается Кикимора и подвергает несчастного дядю Юру та-аким пыткам, что бедолага сходит с ума. Впрочем, у автора хватило ума или интуиции написать, что добытые подобным образом деньги не задержались ни у Кати, ни у её родителей. Ну, и дальше: всё в общем кончилось хорошо. Доведённые до болезней явлением Кикиморы одноклассники Кати всё-таки не умерли. Попавшая в больницу Вероника Евгеньевна превратилась в жалкую старуху, и заменила эту старуху новая, молодая и передовая учительница с татуировкой на плече. Мама Кати развелась с папой. И сразу и маме, и дочке стало хорошо: мама пошла учиться, а Кате разрешила остричь ненавистную косу. Ну, а папа растворился где-то в патриархальном пространстве с новой женой и сыном вместо дочери. Короче, я благодарю Евгению Некрасову за то, что она ясно показала: способствовать воплощению в жизнь феминистских идей может и должна Кикимора и только Кикимора!
Желающие рекламировать роман Евгении Некрасовой «Калечина-Малечина» явно оказали роману и писательнице медвежью услугу, утверждая, что роман — в одно и то же время — похож на… произведения Гоголя, Ремизова, Петрушевской и Венедикта Ерофеева. Ах да, и на известное — «Над пропастью во ржи». Тут на моё лицо наползает язвительная улыбка и припоминается напиток Алисы в Стране чудес со вкусом жареной индейки и сладкого творога. Конечно, ни до кого из вышеперечисленных авторов молодая Некрасова не дотягивает, да и ни о каком серьезном «влиянии» классиков на скромное повествование под названием, взятым из милой потешки Ремизова, речь не идет. Но сначала думаешь: «Книга неплохая. Женская книга. Правильно, что женщина решила написать о детстве девочки…» Однако… Ну, конечно, писать о счастливом детстве вроде как неинтересно, «Детство Никиты» на Евгению Некрасову этого пресловутого «влияния» не оказало. Детство ее героини Кати — скучное и переполненное мелочными обидами. За Катины обиды жестоко и несправедливо мстит сверхъестественное существо Кикимора. Ну и что? А вот что: роман Евгении Некрасовой вдруг раскрывается, как ларчик из сказки. А в ларчике — набор для леди (по аналогии с тем самым джентльменским набором), то есть целый комплекс прозрачных до невозможности отсылок к феминистским идеям. Мама заплетает Кате косичку (ага, патриархальный символ женственности), и скромная процедура плетения девчоночьей косички превращается под пером Некрасовой в настоящую пытку. Ретроградная учительница Вероника Евгеньевна желает воспитывать девочек как именно девочек, а мальчиков — как мальчиков, и даже хочет научить вверенных её попечению детей танцевать патриархальный танец вальс! Веронике Евгеньевне противопоставлена «передовая» Ольга Митяевна, мать-одиночка, читающая детишкам сочинения Оскара Уайльда. Под влиянием (о, вот и влияние!) Ольги Митяевны Катя начинает мечтать о семье, где не будет папы. Так, чего еще не хватает в этом «наборе для леди»? Ну конечно, пресловутого «мужчины-насильника». Зимой на даче Катя пытается заставить дядю Юру отдать ей деньги, которые, как она полагает, он должен её отцу. И дядя Юра что? Угадали. Пытается Катю изнасиловать. И тут вмешивается Кикимора и подвергает несчастного дядю Юру та-аким пыткам, что бедолага сходит с ума. Впрочем, у автора хватило ума или интуиции написать, что добытые подобным образом деньги не задержались ни у Кати, ни у её родителей. Ну, и дальше: всё в общем кончилось хорошо. Доведённые до болезней явлением Кикиморы одноклассники Кати всё-таки не умерли. Попавшая в больницу Вероника Евгеньевна превратилась в жалкую старуху, и заменила эту старуху новая, молодая и передовая учительница с татуировкой на плече. Мама Кати развелась с папой. И сразу и маме, и дочке стало хорошо: мама пошла учиться, а Кате разрешила остричь ненавистную косу. Ну, а папа растворился где-то в патриархальном пространстве с новой женой и сыном вместо дочери. Короче, я благодарю Евгению Некрасову за то, что она ясно показала: способствовать воплощению в жизнь феминистских идей может и должна Кикимора и только Кикимора!
Мария Степанова «Памяти памяти»

Мария Степанова, в отличие от своей молодой коллеги, опытный литератор, поэт и прозаик, осыпанный сахарной пудрой множества различных премий (и заслуженно!). Любое вышедшее из печати произведение Марии Степановой опять же вполне заслуженно и тотчас привлекает внимание критиков и получает вполне заслуженные и изощренные похвальные отзывы. Так случилось и с ее новой книгой «Памяти памяти». Книга толстая, шрифт почти мелкий. Сразу видно, что книга умная и серьезная (правда!). Люблю такие книги. Жаль, что в современной литературе (и русской, и зарубежной) мало таких толстых умных книг. Хочется такую книгу длинно и вкусно рецензировать, употребляя красивые слова, вроде «ассамбляж», «коннотация», «аверс и реверс». Но так я разбирать книгу Марии Степановой не буду. Помните пьесу Крылова «Пирог»? Там описан такой большой пирог из тимбального теста, а внутри, как в закрытой корзинке, чего только нет — цельные птички жареные, ножки, крылышки… Вот и в книге «Памяти памяти» чего только нет, какие умные тонкие рассуждения, какие прекрасные эссе — о Мандельштаме, о Холокосте, о Шарлотте Саломон, о Франческе Вудман... Но на самом-то деле книга действительно умная. И вот тут-то и начинаешь задумываться, о чем же эта книга. Вроде бы о поиске своих корней. И тут-то некий зарубежный историк сказал автору, что теперь таких книг много. И Мария Степанова достойно и с вызовом ответила, что, мол, будет еще одна. Собственно, автора «Памяти памяти» интересуют не столько пресловутые корни и их поиск, сколько странные свойства памяти. Марии Степановой, в сущности, хотелось бы вспомнить то, «что было не с ней». Существует отличный способ: собери письма, дневники и опубликуй. И Степанова собрала и письма, и дневники своей родни и… опубликовала. И прослоила, что называется (ага, пирог!), все эти письма и дневники и описания фотографий «блестящими (правильно критики сказали в один голос) эссе». И чем же Мария Степанова недовольна, откуда пронизывающий книгу тоскливый взгляд автора? В чем дело? Понятно, что для того, чтобы по-настоящему прокомментировать, к примеру, роман или флирт еврейской девушки Сарры из России и болгарского юноши Димитра, надо составить небольшую библиографию в несколько тысяч названий — по истории Балканского полуострова, собственно Болгарии, Российской империи, евреев в Российской империи и так далее. От этой идеи автор «Памяти памяти» отказалась, и вообще-то правильно, что отказалась. Хотя каких-то пунктирных комментариев все-таки не избежала. Автор — женщина, еврейка, и потому более всего в «истории корней» её занимает история именно еврейских женщин её семьи — Сарры Абрамовны, Лели... Ну, хорошо, хорошо, чем же Степанова недовольна? Может быть, тем, что все эти письма и дневниковые записи медленно, но очень уж верно превращаются в трясину, в какое-то скучное болото, где тонет автор, а вместе с автором и читатель. И автор на самом деле понимает, в чём дело. Автор честно признаётся: «…я вынуждена была признать, что моя родня мало постаралась, чтобы сделать нашу историю интересной для пересказа». То есть, для какого-такого пересказа? Может быть, Мария Степанова действительно верила, что стоит запихнуть в книгу все оставшиеся от родни письма и дневники, и вся родня оживёт? Вот оно, ключевое слово: оживёт! Нет, не оживает. Никто не оживает, ни бабушка, ни прабабушка, ни тетя. Никто. Вот что мучает автора: почему они не оживают? Какой-такой «пересказ» нужен, чтобы они ожили?! Автор не знает, автор сдается: нет ничего, нет никакой памяти, никто не оживёт, фарфоровые старинные голенькие куколки, «замороженные шарлотты», оказываются живее мёртвых писем и дневниковых записей: «Если я ждала, что в конце путешествия для меня припрятана коробочка-секретик… из этого ничего не вышло. Места, где ходили, сидели, целовались люди моей семьи, где они спускались к реке или прыгали в трамвай, города, где их знали в лицо и по именам, не стали со мной брататься. Поле битвы, зелёное и равнодушное, заросло травой… «замороженные шарлотты» кажутся мне роднёй — и чем меньше я о них могу рассказать, тем ближе они становятся»… Битва безнадежно проиграна, все умерли, никто не ожил… Но вот у одного французского, второй половины девятнадцатого века, писателя умер брат, мало сказать любимый, так еще они и писали вместе! Умер. Значит, надо его оживить. Как? Письма? Дневники? Опубликованы их совместные дневники и переписка. Но Эдмон Гонкур понимал: для того, чтобы ожил его любимый брат Жюль, нужно другое. Нужно художественное произведение! И он это произведение написал: повесть «Братья Земгано» — о братьях-акробатах, сыновьях итальянского циркача и русской цыганки. И в этой повести и есть правда об Эдмоне и Жюле Гонкурах, та высшая правда, которую напрасно искать в письмах, дневниках и мемуарах. Та именно художественная правда вымысла, которая позволяет мёртвым ожить и жить! Какой-такой пересказ? А не «пересказ», а начать просто: «Сарка проснулась…». Но для того, чтобы вот так начать и продолжать, сегодня нужен особый талант, нужна особая смелость.
Мария Ходакова «Ты одна»
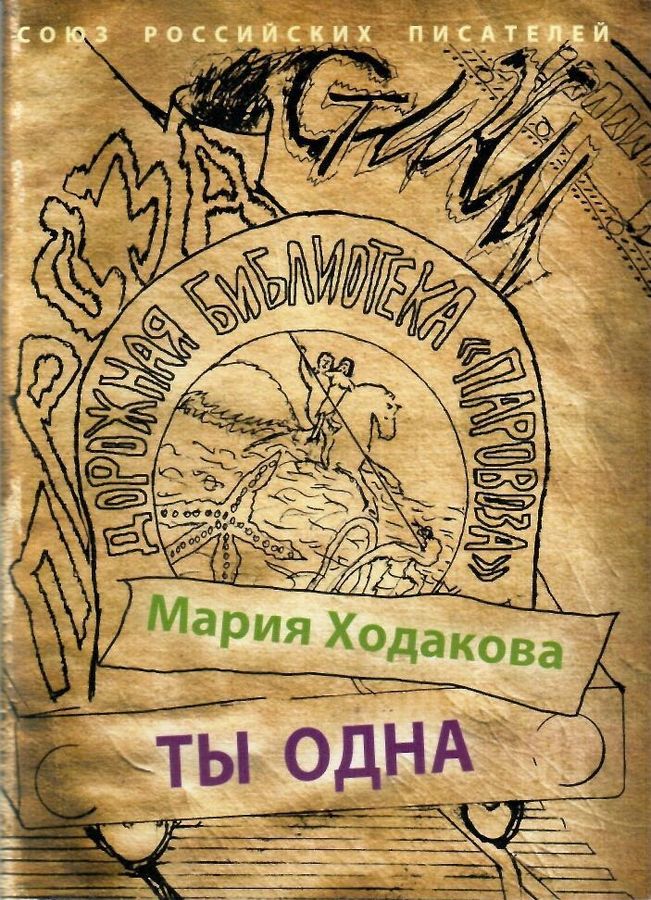
И вот и третья — на сегодня — женская книга, и не книга даже, а книжечка — Мария Ходакова «Ты одна». На коричневатой обложке изображено непонятно что и написано «Дорожная библиотека “Паровоза”» (это не автор придумала, это выдумка издательства!). Тираж 300 экземпляров. Вряд ли эта книжечка попадёт на рецензию кому-либо из наших ведущих критиков. Но вот, попала ко мне. Шесть небольших рассказов. Ни «блестящей эссеистики», ни «влияния» тех или иных классиков. Но я поняла, что читаю по-настоящему глубокую прозу. И на первый взгляд, просто рассказы об очень бедных людях, то есть, об очень бедных и даже и несчастных женщинах. На ножках девочки драные сандалики, её мама летом носит старые резиновые боты, старик, больше похожий (как многие мужчины в старости) на старуху, бродит по свалкам и помойкам в поисках ещё годных хоть для какой-то починки вещей; интеллигентная женщина, чтобы прокормить сынишку, выпрашивает в столовой остатки еды, предназначенные для собак; другая настолько одинока, что представляет после пропажи единственно близкого существа, кота, будто от неё родились котята… И вдруг становится понятно, беспощадно понятно, что это вовсе не рассказы о бедности, о материальных лишениях; это повествование об определенном стиле жизни. И странно (или не странно), у этого стиля жизни есть определённый смысл, глубокий смысл. Отчаянное погружение в материальную недостаточность, в мучительный быт, имеет некую оборотную сторону: надо упасть низко-низко, для того, чтобы… взлететь! Не случайно первый рассказ — о девочке, которая мечтает стать летчицей, называется «Там, высоко». И это даже и не о самолетах, это о детской мечте: «… Когда я стану лётчицей, я полечу еще выше и посмотрю, есть ли Бог. Наверно, просто туда никто не долетал, поэтому и не знают. А я точно узнаю». Такая русская, толстовская, достоевская мечта. И старик, похожий на старуху, мечтает о… рае на земле, когда все займутся просто починкой изношенных вещей, превращением их в годные для новой жизни. И героиня рассказа «Ты одна», казалось бы, намертво погруженная в помойку быта на даче когда-то своего детства, а теперь своей горькой старости, встречает смерть самую трагическую и нелепую: её душит слабоумный старик, некогда мальчик из ее детства. Но эта смерть, она выход — наконец-то! — в то самое райское: «...Задыхаясь, она погружалась в толщу зеленоватой мутной темной воды, цветущей воды пруда, где они оба, маленькие, несмотря на запрет родителей, купались голышом, не стыдясь друг друга…» Я нашла в интернете стихи Марии Ходаковой: «Помойка меня принимает в объятья, и ласточка режет меня по живому…». И на этом позвольте закончить.