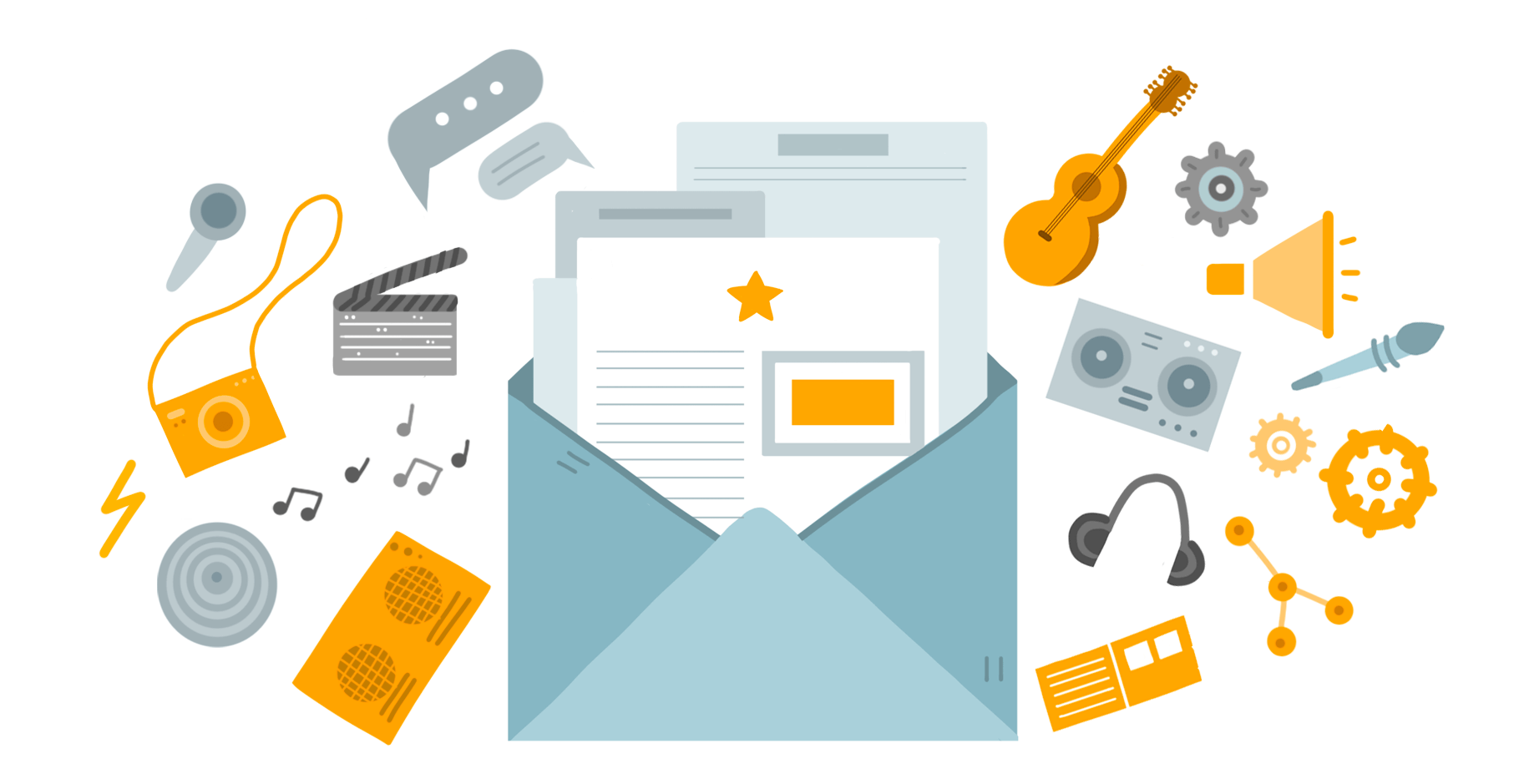Наркоактивист, автор термина «наркофобия», поэт и вечный панк Александр Дельфинов уже более 10 лет борется с общественным страхом перед зависимыми и развеивает мифы о веществах. Несмотря на то, что он прошёл через тяжёлые последствия злоупотребления и пережил сильные депрессивные эпизоды, Александр уверен: стигматизация людей, которые обратились к наркотикам в попытке справиться с трудностями, превращается в системное насилие и совершенно не решает проблему наркопотребления.
По случаю выхода его поэтического сборника «Радуйся» мы поговорили с Александром о современной наркополитике и поэзии: почему страх перед наркоманами нерационален, участится ли употребление наркотиков, если говорить о них открыто, почему стигматизация в России — это не только комментарии в фэйсбуке, но и изнасилования и выбитые зубы, чем публика российских поэтических вечеров отличается от зарубежной, и как ощутить радость после депрессии.
Дисклеймер: статья не пропагандирует употребление наркотиков или любых других запрещённых веществ. По закону РФ приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также культивирование психотропных растений является уголовным преступлением, кроме того, наркотики могут быть опасны для вашего здоровья.
— Один из проектов, к которым ты причастен, называется «Наркофобия». Что это вообще такое? Как возникло это название?
В 2011 году, когда у меня еще была должность координатора медийных проектов в Фонде Андрея Рылькова (ФАР), мы сконструировали проект, в рамках которого затем проводили конкурсы среди художников и журналистов по наркотематике, ездили по разным городам с воркшопами по истории наркополитики, знакомили людей со сравнительным опытом западных — да и не только западных — стран.
Мы долго думали над названием проекта: нужно было проявить проблему, которая возникает в России, когда ты начинаешь разговор на тему психоактивных веществ. Будто у людей в сознании возникает какая-то заглушка. Некоторым срывает крышу, они начинают в истерике что-то орать: «Всех этих наркоманов задушить, расстрелять!» Почему эти люди так кипят? Некоторые пугаются: «Не надо об этом говорить, не хотим даже слышать про это». Другие, имевшие опыт с веществами или родственников, пострадавших от них, наоборот, очень заинтересованы. Некоторые вообще ни о чем другом говорить не могут — у них болезненная фиксация на этой теме. Причем она может быть отрицательной: у меня был знакомый, который больше десяти лет зависел от героина, потом он через систему Анонимных Наркоманов вышел из этого, и после стал просто ненавидеть наркоманов, кипел буквально, хотя он работал в области профилактики ВИЧ. Настолько у него была фиксация на этой теме, потому что он отрицал собственное прошлое. Так вот, мы хотели это выразить, мы искали для этого слово.
Вначале мы придумали какие-то дурацкие названия, а потом по аналогии с ксенофобией и гомофобией я вдруг подумал: а вот же — хорошее слово прямо на поверхности. Забил его в гугл, а его нет. В первый раз в жизни я увидел, что гугл показывает ноль: получилось, что никто на русском языке это слово никогда не произносил. Мы тогда решили: проект так и назовем, и гугл будет нас открывать (смеется). Так и было какое-то время — наш сайт открывался первым. Сейчас это слово все используют, и нашего сайта уже нет, который тогда открывался.
— Коль скоро ты сравниваешь наркофобию с гомофобией, задам такой вопрос. Большинство молодых людей в больших городах России уже понимают, что двое мужчин, держащихся за руки на улице, не несут для них угрозы, и что гомофобия по своей природе полностью иррациональна. А наркофобия — может ли она быть во благо? В ней есть рациональная часть — например, страх попасть в зависимость?
Нет. Фобия в принципе не может быть рациональной — на то она и фобия, что никакая логика на неё не действует. [В ней] всегда есть нечто большое, что находится за кадром, за пределами описания и понимания. И это нечто действует из теневой сферы и затмевает рациональный диалог на эту тему. С человеком, который поражен какой-то фобией из семейства ксенофобии, ты практически никогда не можешь вести разговор, основанный на аргументах. Это то же самое, что говорить с человеком, который верит в теорию заговора: если он верит, что все журналисты мира сговорились, чтобы тебя обмануть, то раз ты журналист — ты тоже его обманываешь, и ты никогда не сможешь доказать, что это не так. Если ты будешь ссылаться на научные исследования, тебе скажут: «Ага, ну это все подтасовано».
— Либо ты сам наркоман и поэтому так говоришь.
Так мне и говорят! Я же говорю, что я представляю сообщество людей, употребляющих наркотики, и неважно, что я много лет ничего не употребляю — я все равно представляю это сообщество (так же любой человек в Анонимных Наркоманах или Анонимных Алкоголиках скажет тебе: «Здравствуйте, я зависимый», хотя он может уже ничего не употреблять годами).
Другое дело, если человек способен думать, хочет учиться и меняться, — тогда он способен со своей фобией работать. Хотя это происходит постепенно, не сразу. Это хорошо заметно, когда ты общаешься с родителями какого-нибудь человека из провинциального города: у него ВИЧ [и опыт зависимости], он ходит в центр СПИД получать лекарства, а его родители, что называется, люди простые, не доценты университетов — мне приходилось такое делать. Конечно, сначала у них все это [наркофобия] есть. В какой-то момент они начинают ходить в центр СПИД на психологические группы, на группы созависимых, и у них постепенно изменяется мировоззрение. Потому что, когда ты видишь других людей, испытавших такой же опыт и прошедших дальше, это на тебя воздействует.
Конечно, вряд ли на них подействуют какие-то эмоциональные речи человека с зелеными волосами из Германии. Но когда они пообщаются с такими же мамами, которые скажут: «О, у вас созависимость», — то тут они прислушаются. И я таких людей встречал, причем после этого они были готовы и меня слушать. Потому что, когда снимается иррациональный блок, страх, — все вдруг становится объяснимым и простым.
Представь себе: ночь, ты лежишь в кровати, тебе семь лет. И ты думаешь: «Сейчас высунется бледная рука из-под кровати и схватит меня за пятку». А потом ты включаешь свет, заглядываешь под кровать, а там старый чемодан. И все превращается в простую комнату.
— В то, что можно обсуждать.
Да. Причем заметь: выключишь свет — опять будет страшно, так же и здесь: это опять может вернуться обратно. Это процесс, и он нелинейный.
— Но все-таки, если ребенок шестнадцати лет боится наркотиков, боится попасть в зависимость и поэтому их не пробует, — это в любом случае плохо, такой вот страх перед наркотиками, который не подпускает к ним?
Нет, почему, это вообще никак, потому что то, что ты сейчас говоришь, — это умозрительный пример. Какой-то ребенок боится, какой-то ребенок не боится, а какой-то — боялся, а потом он встретился с другим ребенком, и тот ему сказал: «Ха-ха, да ты че? Вот тебе таблетка». Говорить абстрактно о каком-то ребенке нет смысла, имеет смысл говорить о конкретном ребенке. И, как правило, если мы начинаем говорить о проблематике, мы о говорим о ребенке или подростке с проблемами. Понятное дело, что о том человеке, у которого проблем нет, мы и говорить не будем в проблемном отношении.
И тут, кстати, есть один тонкий момент: хотя нам, что называется, закон о пропаганде наркотиков запрещает про такие вещи говорить, есть люди, которые эти самые вещества употребляют и не испытывают зависимости, потому что есть разные степени проблематики. Например, мы говорим об алкоголизме. Приведу в пример себя: у меня в медицинской карте стоит диагноз «изменения поведения из-за злоупотребления алкоголем». У меня не стоит алкогольная зависимость, у меня стоит [диагноз] «изменения поведения», и это отдельное явление, а зависимость — это уже другой какой-то этап. Все измеряется на весах разума.
И как есть люди, которые употребляют алкоголь только по праздникам, такие люди есть и с другими психоактивными веществами. Но мы же не будем обсуждать в проблемном отношении случай суперуспешного банкира, который с друзьями разнюхивает кокос у себя на даче. Нас это не волнует, потому что у него банк успешный, и все хорошо, и, если у него банк не рухнет, а так и будет работать, — никто не будет на эту тему переживать.
— Получается такая ошибка выжившего, только наоборот: до нас доходят только те случаи, когда все стало плохо, но мы не слышим о тех случаях, когда человек социализирован.
Конечно, и этому есть ещё одно объяснение. Есть один очень интересный пример, и пусть меня оппоненты за него критикуют. Мы знаем, что существовала теория моста. Она звучала примерно так: вначале люди начинают курить марихуану, а потом переключается с «легких» наркотиков, когда «легкие» уже перестают удовлетворять, на «тяжелые» — на героин, и так начинается героиновая зависимость (хотя сам термин «легкие» и «тяжелые» [наркотики] не считается научным). Это можно было прочитать в советском учебнике психиатрии за семьдесят какой-то год — я помню, у меня он дома валялся. Там трактовался морфинизм, и говорилось: морфинизму предшествует употребление продуктов конопли.
На самом деле это не так. В реальной жизни происходит обратная ситуация: люди, которые уходят от героиновой и, кстати, алкогольной зависимости, часто переходят на употребление продуктов каннабиса. Откуда [тогда] возникла эта легенда? Очень просто: к врачам обращались морфинисты в зависимости, и огромное количество из них употребляли еще и продукты конопли и честно об этом доктору рассказывали. Врачи все это записывали, и так и сформировался канон: у него было в анамнезе употребление продуктов конопли, значит одно предшествует другому. Но люди, которые употребляли коноплю годами и не испытывали этих проблем, они-то к врачу не обращались, врачи их не документировали. А мы знаем, что продукты каннабиса являются самым популярным психоактивным веществом в мире, и мы знаем, что огромное количество людей (гораздо большее, чем употребляли морфин) употребляли всегда этот препарат и не обращались к врачам. Просто о них ничего не писали, и поэтому та мысль, что человек может употреблять каннабис и не обязательно начинать употреблять морфин или героин, долгое время [врачам] в голову не приходила. И потребовались десятилетия, чтобы к этой мысли прийти, как и к той, что у людей, употребляющих продукты конопли, могут быть совершенно другие проблемы.
Здесь важно ко всему подходить дифференцированно. Например, наркотики вызывают зависимость — правильно ли это утверждение? Если вы будете говорить о наркотиках в медицинском смысле, то есть о препаратах опиоидной группы, используемых для наркоза, то да, это верно, — они все вызывают зависимость. Но если вы будете говорить о неопиоидных наркотиках, используемых для наркоза и обезболивания — они необязательно вызывают зависимость. А если мы будем говорить о психоактивных веществах, используемых в рекреационных целях и не являющихся наркотиками в медицинском смысле, а являющихся, например, галлюциногенами или стимуляторами — они вызывают зависимость? Ну, что-то да, что-то нет, и зависимость разная бывает: физическая, психическая, психологическая. Оказывается, это не совсем точное выражение — «наркотики вызывают зависимость».
И оказывается, что зависимость — это даже не самое страшное, что может быть, хотя я сейчас не говорю, что наркотики обязательно что-то страшное за собой влекут. Но просто в эту зависимость упираются все разговоры, хотя это вообще-то не единственная проблема, а зависимость [как таковая] может вообще не быть проблемой.
Вот рассмотрим человека из другой оперы: человек, зависимый от инсулина. В его случае это способ поддерживать уровень жизни, и зависимость для него не является проблемой. Так же можно сказать, что человек, который находится в программе заместительной терапии, если она эффективна, имеет зависимость, но может нормально жить и социализироваться, то есть зависимость для него перестает быть проблемой. Зависимость может не быть проблемой, в то время как проблемой будет аддиктивное поведение — болезненное поведение, связанное со злоупотреблением.
— Кроме зависимости, о каких проблемах важно говорить?
Есть проблема, когда люди, имеющие психиатрический диагноз, используют психоактивные вещества для самолечения — когда их брутально прессуют, подвергают жестокой реабилитации, но не лечат их диагнозы, они не получают [необходимой] помощи. Есть проблема созависимости, проблема сопутствующих заболеваний, проблема передозировок — в том числе клубными наркотиками, некоторые из которых зависимости не вызывают.
Например, был случай в Австралии несколько лет назад, когда девушка стояла в очереди на фестиваль и с собой имела какие-то таблетки. И вдруг она увидела, что очень мощный обыск идет на входе. Она испугалась и проглотила их. У неё случилась передозировка, и она умерла. Жесткий моралист скажет: «А не надо ходить на фестивали с таблетками!» А человек прагматичный скажет: «Мы могли спасти жизнь этой девушки, если бы она знала, что так делать нельзя». Что важнее: спасти жизнь этой девушки или на этом примере испугать других? Я не знаю.
— Что худшее с тобой происходило из-за наркотиков или под наркотиками?
В целом даже как-то неловко признаться, что со мной ничего сильно ужасного не происходило, если не брать в расчет того, что происходило с моими моими друзьями, подругами и близкими людьми, потому что самые страшные негативные впечатления — это когда ты смотришь на друзей, которые заболели, умерли или попали в зависимость, которым требуется помощь, а ты не можешь помочь.
— Ты упомянул, что нередко люди с психическими расстройствами употребляет наркотики, и ты, как представитель обоих сообществ (людей, употребляющих наркотики, и людей с психическими расстройствами), можешь рассказать, с какими специфическими трудностями сталкиваются такие люди?
Любой человек, который употребляет какие-либо психоактивные вещества в российской ситуации, имеет основную проблему: проблему с законом. Так как все это нелегально, он оказывается привязан к нелегальному рынку, рискует попасться и попасть под полицейский произвол — потому что мы все понимаем, что попадать в отдел полиции в России рискованно, даже если ты не наркоман, даже если ты вышел на митинг или просто шел по улице. Любой, кто, как я, хотя бы раз побывал в отделении полиции, знает, что это опасно для здоровья.
И раз человек оказывается выдавлен в нелегальную сферу, он уже к врачу не пойдет, потому что он боится, что врач передаст его данные в полицию. Он не будет получать лечение — психиатрическое, наркологическое, любое. Проблема психофобии (хотя и так слишком много фобий в нашем разговоре), проблема жизни людей с психическими особенностями или диагнозами заключается в стигматизации и в том, что они не ходят к врачам, боятся психиатров и вообще даже не думают о том, что их странные состояния могут быть как-то связаны с психиатрией. И они будут с гораздо большей вероятностью употреблять какие-то непонятные препараты, которые купят на черном рынке, чем легальную фармакологию по рецепту врача.
Человек испытывает некоторые плохие состояния и употребляет вещества, чтобы убрать эти состояния. И пока дойдет до психофармакологии, пройдут десятки лет, — в моем случае двадцать. Пока я от подросткового возраста перешел к взрослому состоянию общения с психофармакологией, у меня в промежутке был этот период наркоэкспериментов: такой более, чем десятилетний, наркомарофон. Что за люди склонны к таким экспериментам? Это как раз [часто] люди, у которых есть диагнозы, и это для них — попытка самолечения.
Я сейчас приведу очень жесткий пример. Моя знакомая употребляла инъекционным образом стимуляторы, сделала себе укол, и у нее произошел, что называется, «задув» — воспалилась вена в паховой области. Она боялась пойти к врачу по понятной причине. Она пригласила к себе знакомого врача скорой помощи, друга друзей. Попросила его по знакомству её осмотреть. Этот врач пришел к ней домой, изнасиловал её и пригрозил ей, что, если она на него пожалуется, он её сдаст как наркоманку. Вот, пожалуйста, пример, чем рискует женщина, которая имеет психиатрический диагноз в анамнезе — биполярное расстройство, симптомы которого она купировала стимуляторами — какое-то время успешно (к сожалению, они могут так действовать), а потом у неё возникли проблемы (к сожалению, потом, как правило, возникают проблемы), а потом с ней случилась вот такая история.
— Какой самый яркий случай наркофобии или дискриминации был именно по отношению к тебе?
Я так долго живу на свете, что я уже не помню. Наверно, самый жесткий пример — меня всю ночь избивали менты в отделении полиции, угрожая, что на меня заведут дело по наркотикам, потому что, когда меня задержали, они через какое-то время поняли, что по этой теме можно меня прессовать.
— А задержали за что?
Просто так. Просто подвыпившие опера ночью меня задержали в метро, отвели в отдел, и до утра я с ними там провел. Причем никаких наркотиков у меня не было, и даже в этот период я был верующий, ходил в церковь и носил с собой молитвенник, но выглядел как неформал. Пожалуй, ничего более страшного со мной не происходило.

— Как вообще исторически получилось, что человек, употребляющий наркотики, стал считаться изгоем и маргинальным элементом? Это всегда было или же появилось из-за каких-то политических действий в конкретный момент?
Я не смогу ответить на этот вопрос кратко.
В конце XIX — начале XX века в развитых обществах было очень сильное прогибиционистское движение, основанное на морализме. Это было движение за запрет алкоголя, и оно также автоматически подразумевало запрет и других психоактивных веществ. В первую очередь, тогда это было связано с торговлей опиумом, но и другие вещества автоматически приписывались определенным социальным группам. Например, в Америке антимарихуановая компания строилась на том, что марихуана — это наркотик чернокожих. Говорилось: «Вот, эти черные люди курят этот наркотик, сходят с ума и насилуют белых женщин. А белые люди берут это от них и деградируют». Так же говорилось и про другие вещества: тот же морфин. Первые люди, выступавшие за запрет в Америке в начале XX века, когда первые опиумные конференции происходили — все были расистами и связывали наркопотребление с чернокожими людьми, с китайцами, с мексиканцами, но только не с белыми. Белых людей это [якобы] не затрагивало. И это очень интересная связь: дискурс запрета определенных психоактивных веществ полностью совпадал с дискурсом расизма. Вы можете по-разному это интерпретировать, но это исторический факт: эти люди были расистами, и эти люди выступали за запрет.
Так было. Те причины, по которым сегодня говорят о запрете, могут отличаться от того, что говорили сто пятьдесят лет назад. Аргументация может быть иной. А в начале ХХ века апелляция к господу была вполне легитимной: «Потому что это грех». Мы сегодня не размышляем в этой парадигме — греха и искупления греха, а тогда эта перспектива была нормальной для пуритан. Поэтому в исторической перспективе мы видим, что взгляды меняются, и люди по-разному относятся к одному и тому же, поэтому надо быть аккуратными с историческими аналогиями.
— А что насчет российского контекста?
В Российском контексте также присутствует элемент расизма, или можно назвать это элементом национального шовинизма. Например, часто можно слышать понятие «наркоугроза», которое было введено в 90-е годы и потом активно поддерживалось в период существования ФСКН. Например, это может звучать, как некая угроза иностранного вторжения со стороны Афганистана.
Есть что-то, что угрожает русским людям, и в качестве источников этой угрозы обычно представлены люди иных народов. Например, кто [якобы] торгует наркотиками? Это узбеки, таджики, цыгане — то есть этим занимаются «плохие нерусские люди».
Этот дискурс поддерживался, например, Евгением Ройзманом в период его активности в «Городе без наркотиков». Эту риторику также использовали представители ФСКН, её можно услышать от представителей МВД и от каких-то деятелей, выступающих за жесткую нравственность.
Реальность, естественно, выглядит сложнее, чем такое деление на черных и белых, и русские люди сами прекрасно могут заниматься торговлей различными веществами и производством этих веществ, но дело даже не в этом. А дело в том, что сама риторика, которая четко создает образ врага, отличающегося от нас, и наделяет его отрицательными качествами, создавая образ «продавца зла»: человека с иными чертами лица, другим цветом кожи, говорящего на другом языке, — это модель, которая была известна в американской истории. А в России все повторяется прямо на наших глазах. Иррациональная ксенофобия, которая изображает врага в виде наркоторговца-цыгана — это всем понятно, и никто даже с этим не спорит.
Это, я думаю, не связано ни с Америкой, ни с Россией, — просто некий универсальный механизм архаического человеческого сознания, который позволяет большинству в обществе чувствовать себя консолидировано, крепко, классными и здоровыми. Потому что есть козел отпущения, которого можно наделить всеми грехами и наказывать.
Мое глубокое убеждение в том, что употребление веществ не может являться поводом для жесткого насилия по отношению к потребителю. Среди наркопотребителей я порой встречался с более человечным отношением друг к другу, чем в среде так называемых врачей. Насилие, которое обрушивает государство в России на людей, которые употребляют вещества, совершенно неадекватно тому, что эти люди собой представляют. Это сообщество не является таким вредным для общества, чтобы его таким образом прессовать.
— Не получится ли так, что мы станем открыто и толерантно говорить о наркотиках, и люди, как следствие, станут больше их употреблять — в том числе вещества, считающиеся наиболее опасными?
Этот вопрос часто задают, и я, конечно, не знаю на него ответа, потому что пока такого не было. Но есть примеры, на которые мы можем опереться, чтобы делать предположения. Например, наркополитика Португалии. Перед 2001 годом, до декриминализации всех психоактивных веществ и выведения из-под уголовного преследования любых зависимых, не занимающихся продажей наркотиков, там был высокий прирост ВИЧ-инфекции. После же декриминализации, насколько мы можем судить по статистике, уровень ВИЧ-инфекции и других сопутствующих заболеваний в Португалии перестал расти и остается низким, феномен так называемого массового наркотуризма не произошел (то есть никаких толп людей, которые мчатся в Португалию, чтобы упороться, не наблюдается, хотя, может, какие-то отдельные люди и есть). В принципе, Португалия с 2001 года как жила, так и живет, все превратилось в рутину: человека задерживают с веществами, его ведут на специальное заседание, там [сидят] психолог, какой-то представитель властей, задержанного спрашивают, хочет он лечиться или нет… Количество наркопотребления в Португалии особенно не уменьшилось, но и не увеличилось — осталось на том же уровне.
Да, могут сказать: «Португалия — маленькая страна». А вот Россия, в которой идёт такая мощнейшая война [с наркотиками], war on drugs в нашем варианте. Мы прям боролись-боролись, создали ФСКН и доборолись до того, что у нас теперь существует Г****, которую нельзя называть вслух, и которая позволяет в каждом городе страны и в любое время суток за двадцать минут найти любое психоактивное вещество. Ну, может, не в каждом городе, но в Москве уж точно можно в любом районе днем и ночью любое вещество найти. И всё, что хочешь — вся линейка, а линейка стала больше. Такой доступности у психоактивных веществ никогда не было, никогда. Такой легкости, чтобы их достать…
Думаю, что скорее надо говорить о том, насколько эффективны принимаемые меры, и к чему они привели. По всей стране лаборатории амфетамин гонят.
Постоянно мы видим полицейские рейды, которые нам показывают в [теле-] передачах. Но это все выглядит странно: так долго боролись, все 90-е годы боролись, и борьба так и идет себе дальше.
Уже это такой собственный бизнес. Пожалуй, законодательное регулирование психоактивных веществ было бы гораздо более здоровым для общества, чем законы, которые позволяют потребителей сажать в тюрьмы и преследовать, когда медицинскую и психологическую помощь очень трудно получить [людям, употребляющим наркотики], а наркобизнес процветает. Он процветает в России, давайте говорить правду.
— Из сказанного не до конца понятно, в чем коренное различие португальской модели с российской, ведь у нас тоже есть административное наказание за хранение психоактивных веществ до определенного порога, как и в Португалии. У нас тоже декриминализация?
В России незначительный размер психоактивных веществ установлен даже меньше, чем минимальные количества, которые потребитель обычно имеет при себе. Человек, который задержан со средней разовой дозой запрещенного психоактивного вещества, уже будет рассматриваться как торговец, и ему грозит уголовная ответственность.
Надо понимать, что есть де-юре (в [российском] законе прописана административная ответственность за хранение до определенного порога) и де-факто, когда полиция задерживает потребителя, и тот размер наркотических средств, которые у него с собой, почти всегда превышает минимальный порог, потому что этот порог очень мал. Мы знаем, что у нас по делам о сбыте проходят люди, которые являются потребителями, но с точки зрения закона это неважно.
Правда совсем недавно «Открытые медиа» опубликовали материал о том, что в России за 10 лет в два раза сократилось количество приговоров с лишением свободы по делам о наркотиках. Это в принципе можно приветствовать, но в целом репрессивное направление российской наркополитики не изменилось, изменились формы правоприменения: суды больше назначают условные наказания и штрафы, но они не освобождают от [уголовной] ответственности. И еще, как предполагают некоторые эксперты, из-за перехода наркорынка в интернет раскрываемость наркопреступлений понизилась — наркорынок стал ускользать от репрессий.
Идея наркополитики, которая базируется на декриминализации наркопотребления, заключается в том, что усилия силовых ведомств перенаправляются от ловли наркоманов по подворотням на преследование организованных структур, крупных наркоторговцев и коррумпированных систем.
Есть и другая сторона вопроса, не связанная с полицией. Это защита здоровья. Предполагается, что в случае с декриминализацией наркопотребления медицинским и социальным службам оказывается легче заниматься профилактикой заболеваний в этой группе, и мы предотвращаем эпидемии ВИЧ, гепатита С, а в некоторых странах и туберкулеза более эффективно.
— Ты говорил, что в своем воркшопе по истории наркополитики вы анализировали опыт не только западных стран. В каком контексте рассматривается наркополитика азиатских стран — например, Китая?
В Китае существует три важных особенности, которые следует упомянуть. Первая: смертная казнь за наркоторговлю. И мы даже помним, как несколько лет назад там были показательные казни: каких-то людей, которые были названы наркоторговцами, в грузовиках возили по улицам, потом привезли куда-то и расстреляли.
Во-вторых, в Китае, помимо смертной казни, существует возможность сажать людей в нелегальные и тайные тюрьмы. Про такие тюрьмы мы знаем, например от художника Ай Вэйвэя, но мы не знаем точно, сколько там людей репрессировано, потому что Китай — это закрытая страна, закрытая система. Сколько в реальности потребителей наркотиков, и куда их сажают, мы точно не знаем, но масштабы там могут быть очень большими. Мы знаем, что в прошлом, во времена коммунистического Китая при Мао, практиковались смертные казни и в отношении наркопотребителей. То есть Китай отличается крайне жесткой политикой вообще, и в отношении наркопотребителей нет оснований предполагать, что она будет менее жесткой.
При этом в Китае легальны методики снижения вреда и заместительная терапия — научно доказуемые меры профилактики ВИЧ и лечения аддикции. В Китае в этом смысле двойственная политика: есть и кнут, и пряник. В России, в отличие от Китая, есть кнут, а пряника нет.
— Что мы можем сказать об эффективности такой модели наркополитики?
Опять-таки затруднительно сказать, потому что Китай не предоставляет информации, которую можно было бы считать достоверной. Насколько я знаю, в Китае нет эпидемии ВИЧ, но точно известно, что употребление есть, оно масштабное, и, как в большинстве азиатских стран, это в основном касается препаратов стимуляторного ряда. Мы также знаем, что Китай является одним из мировых лидеров, если вообще не лидером, по производству новых психоактивных субстанций (то, что в России называется «соли и спайсы»). Китай — это бурлящий наркорынок.
— Какие главные вещи будут в стране-утопии с гуманной и максимально эффективной наркополитикой?
А я не знаю, я утопиями не занимаюсь. Утопия — это умозрительная история. Вы решите одну проблему, а придут две новых. Я просто уверен, что, когда человека бьют в полиции просто потому, что два полицейских считают себя вправе избивать, по их мнению, «грязного наркомана» — это неправильно.
— Ну вот, допустим, в России берут на закладке этого двадцатилетнего парня, зависимого от наркотиков или употребляющего их. Какой дальше сценарий должен с ним происходить, чтобы его жизнь улучшилась и чтобы он не вернулся к криминалу и употреблению веществ?
На такие вопросы нет простых ответов. Люди, которые хотят простых ответов на такие вопросы, обманывают себя. Опять-таки, мы сейчас говорим о некоем условном молодом человеке, который стал закладчиком. Что привело этого человека к этой ситуации? Долги, плохая обстановка дома, тупо жажда наживы? Мы же не знаем, что это за человек.
Какой-то человек, конечно, продолжит этим заниматься, какой-то нет, вопрос заключается в другом: насколько опасен для общества человек, который в семнадцать или в двадцать лет делает закладку? Он настолько опасен, чтобы сажать его на пятнадцать лет, как, мы знаем, есть примеры? Или настолько опасен должен быть какой-то человек, который героин тоннами возит в Россию, грузовиками? Где этот баланс?
Мне кажется, что баланс нарушен, и молодой человек, у которого пятнадцатилетний срок почти равен его предыдущей жизни, получает не исправление, не коррекцию, а просто уничтожение. Это чтобы запугать других. «Васю посадили на пятнадцать лет, то же будет и с тобой». Но это не останавливает людей, когда им восемнадцать или двадцать лет! У них нет жизненного опыта и понимания жизненной перспективы, чтобы такая вещь их остановила. К тому же, большое количество людей по-прежнему не ловят, а деньги большие — этот бизнес привлекателен. Пока он будет так привлекателен и будет обещать такие высокие барыши, он будет существовать.
А второе — фокус государственного насилия и репрессивного законодательства должен быть перенесен с потребителя и даже с какого-нибудь мелкого торговца, низшего звена в этой сети, на организованные структуры. Организованные структуры строят лаборатории, они же покупают автомобили с проблесковыми маячками, они делают фальшивые удостоверения ФСБ (или не фальшивые, я не знаю), они возят тоннами героин или что-то еще. Вот против этих организованных структур должно бороться государство, потому что эти структуры коррумпируют государственные структуры, и самое страшное, когда организованные [преступные] структуры сливаются с государством, и пусть со мной поспорят. А двадцатилетний закладчик — он крайний в этом противостоянии.
Я могу порекомендовать всем, кто интересуется историей наркополитики, посмотреть шестидесяти-шестисерийный телефильм, который по-русски называется «Прослушка», а по-английски — «The Wire». Там в пяти сезонах полностью показана социальная структура наркоторговли и то, как это связано с разными уровнями общества. На примере города Балтимор показана вся социальная схема: от уличных торговцев до администрации города. Шестьдесят шесть серий. Вам станет понятен этот механизм, но вы должны посмотреть, сука, шестьдесят шесть серий (смеется).
— Берлин знаменит Бергхайном. Бывал там когда-нибудь?
Да, один раз и очень давно. Но мне не нравятся такие места, я испытываю клаустрофобические чувства. Я могу выступать в клубе со сцены, но на танцполе мне просто физически некомфортно, если я только не угашен какими-то веществами, но это тоже проблематичный сценарий.
— Учитывая имидж Бергхайна, там сложно находиться, не будучи угашенным какими-то веществами, не только тебе.
Бергхайн — это популярная коммерческая дискотека, и я не вижу в нем ничего экстраординарного. Это было чем-то экстроординарным в конце 80-х — начале 90-х годов, когда возникли сквоты, когда возникло техно-движение в Берлине, когда это было неформальным. Но в последние годы все выродилось в коммерческую развлекаловку для туристов, и я к этому критически настроен.
— Кто главные представители гуманной наркополитики в истории человечества, на твой взгляд?
Назвать какого-то Альберта Эйнштейна в этой области одного я не могу, я, скорее, могу назвать антигероев. Я же больше рассказывал историю репрессий в этой области, а вот история антирепрессий — это, кстати, интересная тема, но я ее никогда не затрагивал. Я могу сказать, что в России есть женщина, которая олицетворяет это движение среди наших соотечественников. Это Аня Саранг. Она президентка ФАР, она самая известная, пожалуй, представительница России по теме drug policy в мире, и по линии ООН, и по линии международного движения по профилактике ВИЧ.
Так вышло, что мы с Аней Саранг вместе учились в РГГУ, и я знаю её очень давно, ещё с тех времён, когда никакой правозащитной и социальной наркополитической движухи не было в моем поле зрения. Аня обладает особыми сверхспособностями — у неё большая внутренняя энергия, позволяющая ей с высокой эффективностью не только проводить исследования и продвигать их результаты в медийном поле, но и заниматься организаторской деятельностью. Её влияние трудно недооценить, думаю, что многие со мной согласятся.
Потом создание Глобальной комиссии по вопросам наркополитики явилось важным действием в развитии гуманности вопроса, и всех людей, которые в неё входят, можно тоже сюда причислить.
— А какой был бы список антигероев?
Можно назвать Гарри Энслинджера — человека, который создал первую в мире наркополицию в США и инициировал антимарихуановую кампанию. В нашей стране можно назвать Эдуарда Арменаковича Бабаяна — академика, который был одним из застрельщиков антигуманной наркополитики и крайне мрачную роль сыграл не только в российской или советской, но и в мировой нарко-повестке. Можно упомянуть двойственную фигуру Кэрри Нэйшн — с одной стороны, это была одна из родоначальниц феминистского движения в мире, а с другой стороны — одной из застрельщиц прогибиционистского движения. Она действовала из лучших побуждений, но последствия ее деятельности в этой области привели не к улучшению жизни людей, а к противоположному результату.
— Понятно, почему наркофобия — это плохо для людей, употребляющих наркотики: потому что их дискриминируют, им отказывают в помощи. Да, она также затрудняет общественный разговор на тему психоактивных веществ. Но можешь просто объяснить, почему бороться с наркофобией важно не только людям, употребляющим наркотики?
Я думаю, что любая фобия из семейства ксенофобии — это социальная болезнь, и она повышает количество насилия в обществе, скажу просто. Все фобии такого типа приводят к тому, что общество в конце концов разбалансируется, возникают дискриминация и насилие. Уровень насилия, дискриминации повышается — уровень общественного блага понижается. Как в стихотворении Галича: «Все было пасмурно и серо, // И лес стоял, как неживой, // И только гиря говномера // Слегка качала головой». Уровень говна повышается — гиря понижается. Так и здесь: чем выше уровень фобии, тем выше уровень говна, то есть насилия. Чем ниже уровень насилия, тем общественное благо выше.
У меня есть для вас плохая новость: наркотики никуда не денутся. В восемнадцатом веке они вырвались из тех растений, в которых они прятались, и обратно они не вернутся. Вы больше не загоните героин обратно в мак. Бесконечные новые химические субстанции, которые сейчас печатает бешеный станок, будут дальше печататься. Вы можете только научить людей с этим обходиться.
И хорошая новость в том, что с учетом удивительного факта, что наркотики никуда не денутся, сто процентов улучшить жизнь людей можно. Я уверен и настаиваю на этом, в том числе, на опыте собственной жизни, как человека, который преодолел кризисы, связанные со злоупотреблением, и кризисы, связанные с психиатрическими состояниями.
— Твоя новая книга «Радуйся» посвящена людям с психическими расстройствами. Что вообще такое жить с депрессией? Расскажи как поэт.
Ну, как поэт я рассказал об этом в книге, и лучше, чем в книге, в двух словах, рассказать я не смогу. Наверное, я могу сказать, в чем мое послание: хотя такого рода состояния могут казаться непреодолимыми и приносить очень сильные страдания, на самом деле, они преодолимы, и из них можно обратно или даже вперед пройти в такое пространство, где радость становится возможной. Это мой опыт, и раз это получилось у меня, это может получиться и у других, и именно это мобилизующее сообщение я считаю главным.
— Какое твое любимое или самое важное стихотворение из этого сборника, и какая история с ним связана, если она есть?
Наверное, в книжке «Радуйся» программным является стихотворение «Радуйся», которое стоит в самом финале. Ситуация, которая происходит с героем стихотворения, была почти идентична ситуации, произошедшей со мной; единственная разница в том, что в стихотворении описывается явление Господа, а в реальности Господь мне не явился посреди улицы, просто у меня были какие-то собственные мысли по этому поводу, но может это и было явление Бога, если под метафорой Господа мы понимаем собственное бессознательное и результат работы своего сознания. Я находился в остро депрессивном состоянии и то ли еще не был в больнице, то ли только вышел оттуда. Все было плохо, и в абсолютно неприятном состоянии я делал какие-то бытовые дела: например, шел на почту. И в процессе этих походов мой ум меня привел к мысли, что на самом деле я не так уж и плохо живу. Вдруг я это увидел, каким-то образом мое сознание прямо повернулось.
— То есть ты запечатлел момент выздоровления, когда ты совсем на дне, но постепенно в тебе что-то просыпается.
Может быть. Но безусловно со мной произошел ментальный поворот, который действует до сих пор. Некое понимание, которое ко мне пришло тогда, осталось со мной по жизни. Я думаю, что это можно назвать инсайтом и сравнить с явлением высшей силы.
— Ты очень классно это стихотворение читаешь вживую. Ты пишешь в жанре spoken word, или perfomance poetry…
Выступаю в таком жанре.
— Да. Значит ли это, что, когда я просто читаю твои стихи, я получаю какое-то неполное представление о том, что ты хочешь донести, получаю обедненный опыт?
Трудно сказать. Я думаю, нет. В жанре spoken word я могу прочитать словарь орфографический, и он тоже зазвучит необычно, заиграет комическими или трагическими акцентами. Или существует spoken word импровизация, когда человек просто что-то рассказывает, в то время как стихотворный текст живет и как написанный на бумаге. Я думаю, что это просто разные стороны [текста]. Действительно есть тексты, которые написаны мной заранее с мыслью о том, что я буду это читать. Есть тексты, написанные совершенно без этой мысли.
Само по себе spoken word как жанр языкового перфоманса, обращенного к зрителям, — это очень современная форма, распространенная в мире. В России она немного отстает и часто, в силу особенностей нашей закрытой культурной ситуации и изолированности от мира, еще с советских времен многими воспринимается как нечто, отличное от поэзии. Буквально недавно в комментариях к посту в Фэйсбуке, где речь шла о московском поэтри-слэме, появился какой-то человек, который стал крайне грубо, хамски отзываться об участниках слэма, говоря, что им надо обратиться к психиатру, и что к поэзии это не имеет отношения, что это имеет отношение к актерству, что тоже, видимо, в его понимании является чем-то низким. Такой вот агрессивный любитель «истинной» поэзии, который немедленно стигматизировал людей по теме психофобии — это очень пересекается с темой нашей разговора. Немедленно всех отправил в дурку.

Вообще кстати беспредельная грубость, с которой ты сталкиваешься в России в отношении поэзии (да и не только), — это просто невероятно. Я двадцать лет живу в Германии, выступал на поэтических фестивалях или в каких-то клубах во многих странах мира. И вот однажды меня пригласили читать стихи в элитный кинотеатр в Москве, где происходило вручение премии за кино. Организаторы премии пригласили меня в культурную программу между вручением призов прочитать несколько стихотворений. В зале сидели интеллигентные люди: режиссеры, сценаристы, деятели культуры. В начале выступления я сказал, что посвящаю свое выступление людям, живущим с диагнозами. Из зала мне крикнули: «Да ты сам с диагнозом!» Немедленно произошла стигматизация. Когда я выходил на сцену, из зала свистели, кричали в полный голос на весь зал: «Уберите его! Кто это такой? Прекратите этот позор! Это не поэзия!» Невозможно себе представить, чтобы публика в Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже — в городах, сопоставимых с Москвой, — на мероприятии такого уровня позволяла бы себе публичные выкрики в адрес незнакомого им артиста, который не просто выбежал на сцену сам по себе, а которого вообще-то пригласили.
Я еще раз хочу сказать, что это был центр Москвы. Лучшие люди в лучшем кинотеатре на одной из лучших премий вели себя как скоты в стойле. Можете себе представить, как себя ведут люди, не обремененные интеллигентностью и жизнью в центре Москвы, условно говоря, в региональном городе, когда встречают такого необычного человека на улице. Хорошо, если он уйдет живым. Одного моего товарища в Новосибирске избили, выбили ему зубы и бросили в мусорный контейнер. Вот так в России выглядит стигматизации — в адрес людей с диагнозом или в адрес людей, которых другие люди, здоровые, заподозрят в том, что они наркоманы. Человек рискует столкнуться с захлёстывающим уровнем насилия.
— Ты пишешь стихи, которые, я подозреваю, предполагают терапевтический эффект на читателя: они могут облегчить его страдания, если он сам имеет психическое расстройство. Можешь посоветовать своих коллег по цеху, чтение которых может принести такой же эффект?
Не могу. Дело в том, что я сам удивлен, что такого рода эффект возникает от моих выступлений. Я принял этот факт, поскольку люди говорят мне это на протяжении многих лет раз за разом. При этом у меня не было такой задумки, просто так стало происходить. Видимо, я интуитивно выполнил какие-то критерии, что-то стал делать, что производит такой эффект, и теперь я этим пользуюсь. Но почему это происходит, я точно не знаю. Это не то, что я сейчас сяду: «А напишу-ка я терапевтическое стихотворение». Я вообще не считаю, что это терапия, для меня это скорее симптом (смеется).
Что касается других поэтов, мне почему-то сейчас в голову приходит Борис Гребенщиков. Как будто мне голос в голове сейчас сказал: «Борис Гребенщиков таким эффектом обладает!»
— Я напишу про голос в голове, а мне скажут, что я беру интервью у психа, и не надо его читать.
А я все время общаюсь с голосами в голове, они мне подсказывают, что делать. Я пишу стихи, прислушиваясь к ним, тут уж ничего не поделаешь.
— Твои эпатажные луки — это просто прикол или это что-то значит?
В детстве, когда у меня не было никаких эпатажных луков, и я был просто школьником, даже еще в детском саду, — ко мне постоянно подходили какие-то мальчики на улице или во дворе и пытались меня побить и какие-то претензии предъявить. То есть мой внешний вид вызывал у людей раздражение еще тогда, когда я не выглядел никак необычно. Но что-то было во мне такое всегда, и я это чувствовал, меня это преследовало по жизни. Когда в пятнадцать лет я узнал о том, что есть какие-то неформальные формы социализации — хиппи, панки, — я будто бы увидел родных людей. И постепенно мой внешний вид действительно стал каким-то необычным, но это просто стало совпадать с тем, что всегда было.
То есть если ко мне подходит какой-нибудь гопник и говорит: «Че ты вырядился, как клоун? Я тебе щас нос разобью», то теперь это хотя бы понятно, у него есть повод. А раньше у него повода не было, и он просто говорил: «Че-то ты мне не нравишься».
А потом у меня был длинный период в жизни между тридцатью и сорока годами, когда я выглядел совершенно нормально и конвенционально. Я отказался от необычного вида и стал обычным человеком. Через десять лет у меня случился жизненный кризис, и я понял, что счастья мне это не принесло. Все эти десять лет я боролся сам с собой. Поэтому то, как я выгляжу внешне, просто соответствует моему внутреннему состоянию: я такой, нравлюсь я вам или не нравлюсь. Это не преследует цели никакого эпатажа, это просто соответствие моего внутреннего состояния внешнему.
— Тебе в этом году 50 лет. Что сделано в генеральном плане и была ли некая жизненная программа, которой ты следовал?
Нет, жизненной программы не было, если не считать программы добиться какого-то поэтического успеха, поскольку поэтическая практика — наиболее долгое и продолжительное дело, которым я занимаюсь — без перерыва с 89-го года, больше тридцати лет. После 2013-го года что-то стало получаться. Не уверен, что это лучшее, на что можно было потратить тридцать с лишним лет, может быть, надо было на зарабатывание денег или что-нибудь еще более интересное, но я потратил их на это. Помимо этого, у меня есть программа заработать миллион долларов и немедленно их потратить в чаду кутежа, но пока я далек от достижения этой цели.