Война ещё больше атомизировала и так лишённое солидарности российское общество. Выступающие против неё граждане, которые не могут или не хотят покидать страну, уже не выходят на митинги, потому что понимают, что массовые протесты не принесут результатов; многие боятся высказываться в публичном пространстве, потому что отличное от прокремлевского мнение теперь грозит сроками. Поддерживающие вторжение люди ограждаются от жестокой реальности, которую ежедневно наблюдают жители Украины, утратившими смыслы словами и погружением в приватную жизнь, далёкую от понимания политики и ответственности; некоторые же, всерьёз проникшись пропагандой, потворствуют ей — доносят в органы на своих близких, преследуют активистов и журналистов с угрозами, распространяют тоталитарную символику Z, поддерживающую убийства и насилие, которые совершают российские военные в соседней стране.
В таких условиях кажется, что россияне уже не могут ни на что повлиять, однако это не так. О том, что каждый может сделать, чтобы остановить войну, журналистка Мария Быкова поговорила с философом Марией Рахманиновой, социологом и политологом Григорием Юдиным, психиатром Александром Данилиным и правозащитницей-журналисткой Ольгой Романовой. В монологах эксперты рассказали, из-за чего нынешние антивоенные протесты обречены, как советская травма привела к сегодняшней тотальной разобщенности, какая когнитивная ошибка царит в головах россиян и что уже удалось сделать антивоенному движению. Почему сегодня необходимо экстренно постигнуть происходящее, переживать трагедию, тренировать своё мышление и сочувствие? Для чего необходимо самостоятельно определиться в своей этической и философской парадигме — понять, что такое любовь, мир, агрессия, где правда, а где ложь? Как прорывать информационную блокаду? Почему нестандартные акции будут иметь больший эффект, чем митинги? И по какой причине уход от политической ответственности в перспективе не сбережёт вашу психику?
Мария Рахманинова, докторка философских наук и соосновательница журнала Akrateia:
 С начала войны прошло чуть больше двух месяцев. Однако внутренняя длительность этого времени оказалась парадоксально неоднородной: как метко заметил поэт Сергей Плотов,
С начала войны прошло чуть больше двух месяцев. Однако внутренняя длительность этого времени оказалась парадоксально неоднородной: как метко заметил поэт Сергей Плотов,
«И бесконечно тянется месяц март,
Не даря надежды, но и не отнимая».
Для многих из нас эти долгие дни словно заблудились где-то между отчаянием, ужасом, горем и неизбывной виной. И ещё — мучительными попытками постигнуть важную сторону катастрофического: ежедневный, многократный и безальтернативный моральный выбор из нескольких примерно равных зол. На сей раз правильного ответа на вопрос «что нам делать?» попросту не существует, ведь мы, похоже, и есть те, кому предстоит его сформулировать. Кажется, именно так и выглядит историческая ответственность, о которой все мы столько читали в книгах, но с которой никогда не сталкивались по-настоящему, телесно. Что ж, этот момент настал, и наша плоть полным ходом насыщается новым опытом. Неочевидная корпореальность войны за стеной — сюжет, который, надеюсь, ещё будет удостоен отдельных исследований. Как и многое из того, что по живому вскрыла в нашей эпохе катастрофа.
Пока же всё это находится где-то в глубине чёрного тумана. Даже самые оптимистичные и уверенные спикеры на сей раз не дают никаких определённых ответов и прогнозов.
И всё же кое-что сквозь этот туман временами проступает весьма отчётливо.
Во-первых, грандиозный успех госпропаганды, на оплату которой родина никогда не скупилась. Ксенофобно-имперская оптика в очередной раз была успешно обновлена в сознании жителей России, а в последние месяцы и вовсе превзошла саму себя в техниках эскалации ярости, ненависти и экстаза. В этих исступлённых возгонках вокруг мессианства русского мира сознание граждан — и без того склонное по инерции очаровываться своей причастностью великому теологическому Ничто — окончательно утратило связь с реальностью и, с точки зрения жизнеспособной человеческой социальности, вошло в пике.
Во-вторых, очертания провала всех наших отчаянных попыток не допустить того, что всё-таки случилось: более 15 лет нас неизменно оказывалось слишком мало, чтобы что-то изменить, даже при регулярном участии в самых разных формах протеста против повсеместной эскалации этатистского произвола и насилия. Эта всеобщая социально-политическая апатия и тотальная разобщённость — важная предпосылка случившегося. Впрочем, сюжеты, обеспечившие её — тема для отдельного высказывания.
В-третьих, нынешние антивоенные протесты, по всей видимости, обречены — как и все протесты, начиная с 14-15-го гг. — когда стали стремительно приниматься драконовские законы о статусе и полномочиях полиции и других государственных органов. Причин тому несколько. Непростительная малочисленность — лишь одна из них. Куда более значимая — редкая нечувствительность верхних слоёв вертикали власти к голосам «низов» (то есть вообще всех граждан, кроме самих властных элит и фигур, ими протежируемых).
Унификация и растворение населения в абстрактном портрете неразумного холопа привела к равной неслышимости речи всех категорий граждан, вне зависимости от их значимости для общества, а также образованности, компетентности и реальной пассионарности.
В этом смысле сегодня, похоже, и правда не осталось никаких рычагов влияния на ситуацию изнутри страны. То единственное, что по-настоящему следовало бы предпринять, и что действительно могло бы быстро и ощутимо перезагрузить происходящее — всеобщая забастовка как минимум до полного вывода войск России из Украины — увы, по ряду объективных причин остаётся в области маловероятных сценариев. Не в последнюю очередь из-за старинной «традиции» доноса и штрейкбрехерства, которую так долго и заботливо проращивали в советском обществе, и которая с такой готовностью пробуждается после недолгого сна.
Немаловажную роль здесь сыграла и полная атрофия социальности на фоне советской травмы принудительного растворения в коллективном субъекте.
Словом, у сегодняшнего дня для нас мало утешительного.
И всё же кое-что мы сделать можем и должны.
Очень часто невозможность что-либо изменить ошибочно отождествляют с отсутствием необходимости реагировать. Это — одна из самых распространённых когнитивных ошибок в разные времена, и особенно — сегодня: «Зачем мне об этом думать, раз я всё равно ни на что не влияю?», — растерянно спрашивают то ли друг друга, то ли себя люди самых разных возрастов и профессий. Однако реагировать на внешний мир — это без преувеличения одна из самых важных и сложных задач по соприкосновению с ним в ходе поисков конструктивных форм его освоения. Вероятно, пренебрежение именно этой работой послужило значимой причиной того, что случившееся вообще стало возможно: бесчеловечное воплощается там, где утрачено человеческое.
Что уместно продолжать называть человеческим в эпоху закономерного преодоления эссенциализма и антропоцентризма? Мышление, (со)чувствование, проживание, осмысление, сомнение — и многие другие регистры, выходящие за пределы равнодушия и эскапизма. У греческих анархистов с давних пор бытует одна игра, которой всем нам было бы неплохо обучиться. В ней всего одно правило: засыпая ночью, нужно представлять себе прожитый день, как если бы ты был кем-то из тех, кого случилось в нём видеть: пожилым рыбаком у реки, матерью-одиночкой из очереди на почте, трудовой мигранткой, школьником, гуляющим в парке. Каким был их день? Что они делали, что чувствовали, о чём тревожились? В условиях атомизированной социальности повседневность организована так, что мы утрачиваем способность мыслить то, что не находится прямо у нас под носом — не говоря уже о людях в других городах и странах. Такое внушаемое порядком культуры равнодушие — одно из ключевых звеньев войны: это оно обеспечивает неспособность охватывать умом происходящее в тех многослойных пространствах, на пересечении которых, пусть и неочевидно, живёт и дышит наш собственный индивидуальный мир.
Поэтому трудиться над пониманием происходящего, переживать трагедию как трагедию, постигать собственное и чужое горе, не отворачиваясь от него, болезненно перезагружать картину мира, не смущаясь обнажающихся белых пятен, говорить друг с другом, ставить под вопросы собственные системы координат, обретать других в новом опыте уважения, солидарности и взаимопомощи, называть вещи своими именами и, наконец, освобождаться от вируса имперского сознания — вот тот минимум, который по-настоящему требуется от нас сегодня, и на который мы — хочется верить — все ещё способны.
Мышление — это сложная работа, без которой мы обречены на пассивное присутствие в смутном хаосе реальности, на полное растворение в её грубой материи, а также на молчаливую причастность к чудовищным преступлениям, совершаемым от нашего имени.
Сегодня мы фактически оказались перед лицом тех последствий, которые имел эскапистский отказ от мышления (в особенности политического), предпринятый русской постсоветской реальностью с самых первых шагов. В самом деле: только безучастно-слепые глаза могли не разглядеть зреющей беды и молча потворствовать её становлению. Поэтому если сегодня мы, наконец, испытываем непривычную потребность недвижимо смотреть часами в стенку, в ужасе размышляя о происходящем, что ж, это — скорее добрый знак гражданского выздоровления, чем тревожный симптом. Подобно тому, как несомненно добрым знаком служит затрата большей части ресурсов и «оперативной памяти» организма на сопротивление вживлению в него отравленных конструкций тоталитарной идеологии — такой «иммунный ответ» сегодня наблюдают у себя очень многие, отмечая ухудшение самочувствия и сбои в работе базовых внутренних систем.
Итак, мы остались один на один с необходимостью экстренно постигнуть происходящее: его структуру, интенсивность и свойства. Сделать эту работу за нас — некому. Вместе с тем, не сделать её — снова отвернуться, забыться, отвлечься, пройти мимо, словно ничего не происходит, приспособиться, нормализовать случившееся, удерживаться в нечувствительности к нему — означает выйти на новый виток бесчеловечного и воспроизвести ключевые условия для новых катастроф. Лучшее, что можно сделать среди бездны чужого горя и нашего общего кошмара там, где не осталось путей остановить страшное, — прожить их всеми доступными способами и выйти на той стороне тьмы — израненными, но подлинно другими. Возможно, это и есть главная задача для тех, кого застигло обрушение последних зиккуратов советского мира. Быть может, здесь, наконец, и наметился выход из его смертоносных бездн.
Александр Данилин, психиатр, экс-ведущий радиопрограммы «Серебряные нити» на «Радио России»:
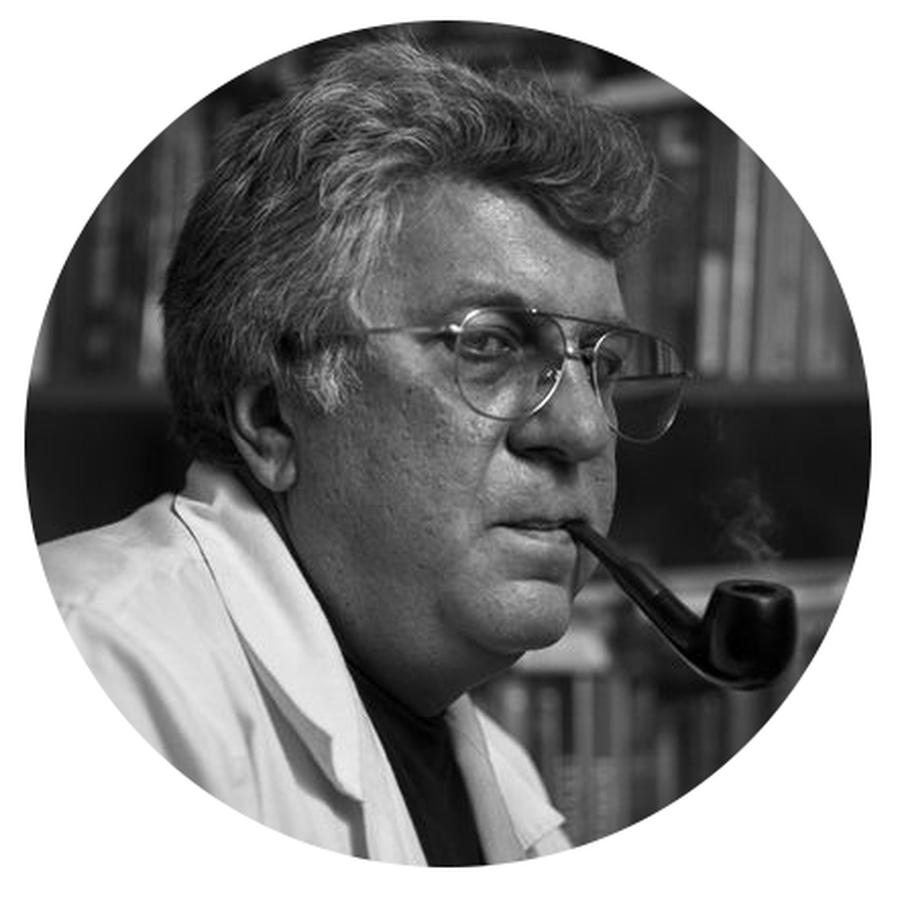 Многие меня спрашивают: «Что делать?» Я не знаю. Сегодня мы не можем ничего сделать, в привычном смысле этого слова. Политическая активность невозможна. Нам намекают, что за инакомыслие в военное время буду принимать экстраординарные меры. Причём мы должны сами понять, что нам нужно «изолироваться», как это было во время COVID-19. Ни для молодых, ни для старых нет смысла проводить большую часть жизни в тюрьме.
Многие меня спрашивают: «Что делать?» Я не знаю. Сегодня мы не можем ничего сделать, в привычном смысле этого слова. Политическая активность невозможна. Нам намекают, что за инакомыслие в военное время буду принимать экстраординарные меры. Причём мы должны сами понять, что нам нужно «изолироваться», как это было во время COVID-19. Ни для молодых, ни для старых нет смысла проводить большую часть жизни в тюрьме.
Поэтому самое реальное — это продолжать говорить там, где это возможно. Однако стоит помнить, что мы имеем дело со сложной системой фейков. Я не политик и у меня нет доступа к объективной информации, поэтому, как мне кажется, комментарии хода военных действий — это глупость.
Я говорю как психиатр: бывают такие исторические моменты, когда добро и зло обнажают себя. В этой ситуации нужно определиться внутри себя: что есть добро, а что зло; где правда, а где ложь. По возможности это нужно сделать письменно.
Мы должны говорить о том, что ценно для нас и что можно делать с этими ценностями. Можно написать, что для вас есть самое главное. Возможно, это сама человеческая жизнь. Для того, чтобы она сохранялась, людям нужно учиться понимать друг друга, а не нагнетать ненависть. Например, сейчас нас активно склоняют к сталинизму. Об этом пока не запрещают говорить. Но мы живём в XXI веке, поэтому попытка вернуть нас на 70 лет назад неминуемо провалится.
Благодаря озабоченности президентом историей, происходит не сколько подмена картин мира, столько утрачивание смысла слов. Они развалились на части и пропали. Можно сказать, что любое сообщение — это фейк. Таким образом новостная парадигма — дикая чушь и игра со словами, которые ничего не означают до тех пор, пока каждый журналист не начнёт отдавать себе отчёт. Не разберётся в своей этической и философской парадигме: не определит для себя, что такое любовь, мир, агрессия.
Причём людям, а не просто журналистам, нужно научиться разбираться в рамках мирового юридического права, чтобы понять, что такое нападение и защита. Только тогда люди смогут подготовить будущее. Они смогут говорить. Но не матом и не с посылом «наша страна не имеет права». Важно говорить, что можно сделать дальше.
Нельзя терять человеческих связей с Украиной. Мы должны остаться людьми в мире нашего общения. К тому же нужно помогать благотворительностью. И не забывать о де-кодировке слов: насилие нужно называть насилием, а агрессию — агрессией. А когда рассвет наступит, мы — некое молчащее большинство — должны перестать быть молчащими, чтобы наконец выбраться из этой трясины.
Нам нужно просить прощение за то, что у большей части страны до сих пор пещерные представления на уровне 80-х годов. Что называется: «Лишь бы гречка не пропала из магазинов». Надо думать о том, как это повлияет на воспитание будущих поколений. Это конец страны, поэтому думать придётся всем.
Ольга Романова, российская журналистка, теле- и радиоведущая, исполнительная директорка движения «Русь сидящая»:
 Это утопия — считать, что мнение граждан влияет на действия текущей власти. Я очень уважаю тех, кто выходит на протесты. Конечно, каждый человек, который позволил себе высказаться против войны, заслуживает поклона и героических прилагательных. Такие люди очень важны.
Это утопия — считать, что мнение граждан влияет на действия текущей власти. Я очень уважаю тех, кто выходит на протесты. Конечно, каждый человек, который позволил себе высказаться против войны, заслуживает поклона и героических прилагательных. Такие люди очень важны.
Войну может остановить только повсеместное единение народа. Сейчас россияне запуганы и слабы. У них совершенно ампутирована и совесть, и историческая память. Поэтому так много надежд возлагается на мировое сообщество и тех немногих, кто остался в России, сохранив смелость высказывать своё мнение.
Я надеюсь, что-то, что сейчас происходит в России — это не продолжение истории «философского парохода». Хотя я понимаю, что всё, что происходило с 2010 года, вело к одной конечной цели.
Моё окружение, в том числе немцы, единодушно поддерживает меня и не поддерживает Путина. Все понимают, что если Кремль возьмёт Украину, то дальше будет Польша и Прибалтика.
Я советую тем, кто сейчас находится в безопасности, доносить до остальных правду о войне. Нужно сделать всё возможное, чтобы прорвать информационную блокаду.
Григорий Юдин, социолог и политолог, кандидат философских наук, руководитель программы Политическая философия Шанинки:

Антивоенному движению уже удалось кое-что сделать. Его существование показывает, что в России есть раскол взглядов. Причём не на равные части. Судя по имеющимся данным, тех, кто сразу высказался против военной агрессии, где-то 20-25%. Эти цифры будут меняться и не в лучшую сторону. Тем не менее это важный момент, т. к. он перешёл в публичную плоскость. Высказавшихся селебрити было видно, слышно и заметно. К ним присоединились должностные лица, но их было не так много. В целом, ситуация негомогенна. Вкупе с теми, кто выходит на улицы, это создаёт важную ситуацию внутри системы.
Наличие глобального сопротивления — это важное условие для спасения будущего страны.
Чтобы увлечься каким-то действием, нужно увидеть результат. Как правило, люди отворачиваются от политических действий не из-за больших рисков, а из-за того, что нет итога работы. В таких ситуациях, как сейчас, люди как раз готовы столкнуться с опасностью, но, если это бессмысленно, то желание что-то делать снижается. Именно поэтому я обращаю внимание на то, что делает антивоенное сопротивление.
Благодаря тому, что цель была достигнута, мы увидели волну репрессий. Как мы это поняли? Последние два года они были превентивными: целый ряд организационных возможностей был выбит. Вы будете долго считать, загибая пальцы всех имеющихся рук. Но не все. Предполагалось, что этого будет достаточно. Так что сейчас мы видим, как Россия пытается закончить начатое дело. Не зря пропаганда обеспокоена «фейками» — любой точкой зрения, не совпадающей со взглядами Минобороны.
Сейчас антивоенные выступления — это борьба на изнурение. Старые формы протеста — митинги и письма — продолжают иметь действие, но они не добавляют ничего нового. Эти формы хороши тем, что они продолжают подсвечивать присутствие. Но на большее они не способны.
Что делать? Нужны нестандартные акции, как то, что было в эфире Первого канала. Это требует определённого гражданского мужества, но эффект «wake up call» будет изумительным. Оно создаст перекличку внутри страны и затронет тех, кто уже охладел к теме.
Если всё это начинает закатываться в асфальт, то мы переходим в тоталитарное состояние. Мы ещё не в нём, но очень-очень близко, потому что происходит постепенная тотализация сознания: появляются буквы Z, инсталляции из человеческих тел, рисунки на дверях. Эти индикаторы ни с чем не спутаешь. Вы не можете думать, верить не так, как считает государство. Раньше этого в России не было: «Думай, что хочешь, только сиди дома и ничего не делай».
При такой ситуации нет возможностей для политического действия, но есть подпольная борьба. Можно ориентироваться на пример Германии 30-х или Франции во время оккупации. Естественно, появятся люди, которые будут этим заниматься. Появятся новые способы протеста. Но пока этот вопрос не решён.
Я думаю, что сейчас есть возможность для эффективных публичных действий: внутри страны это вызовет поддержку в ряде социальных групп или приведёт к мировой солидарности. С одной стороны, сейчас нужно продолжать делать то, что мы делали раньше, а с другой стороны, надо заниматься изобретательством. Мы это видим практически во всех сферах.
Кто-то партизанит втихую. Было бы хорошо вывести это на новый глобальный и, самое главное, объединённый уровень.
Сейчас Россия страдает от очень большой моральной катастрофы, которая впоследствии может погубить страну. Моральная катастрофа — это отсутствие триггера, который бы привил минимальную политическую ответственность. Это то, что в своё время Ханна Арендт назвала «банальностью зла». Каждый имеет право на защитный механизм. Но стремление до конца уходить от политической ответственности не может быть оправдано даже желанием сберечь собственную психику. Зачем её тогда сберегать? Чтобы быть частью машины уничтожения?












