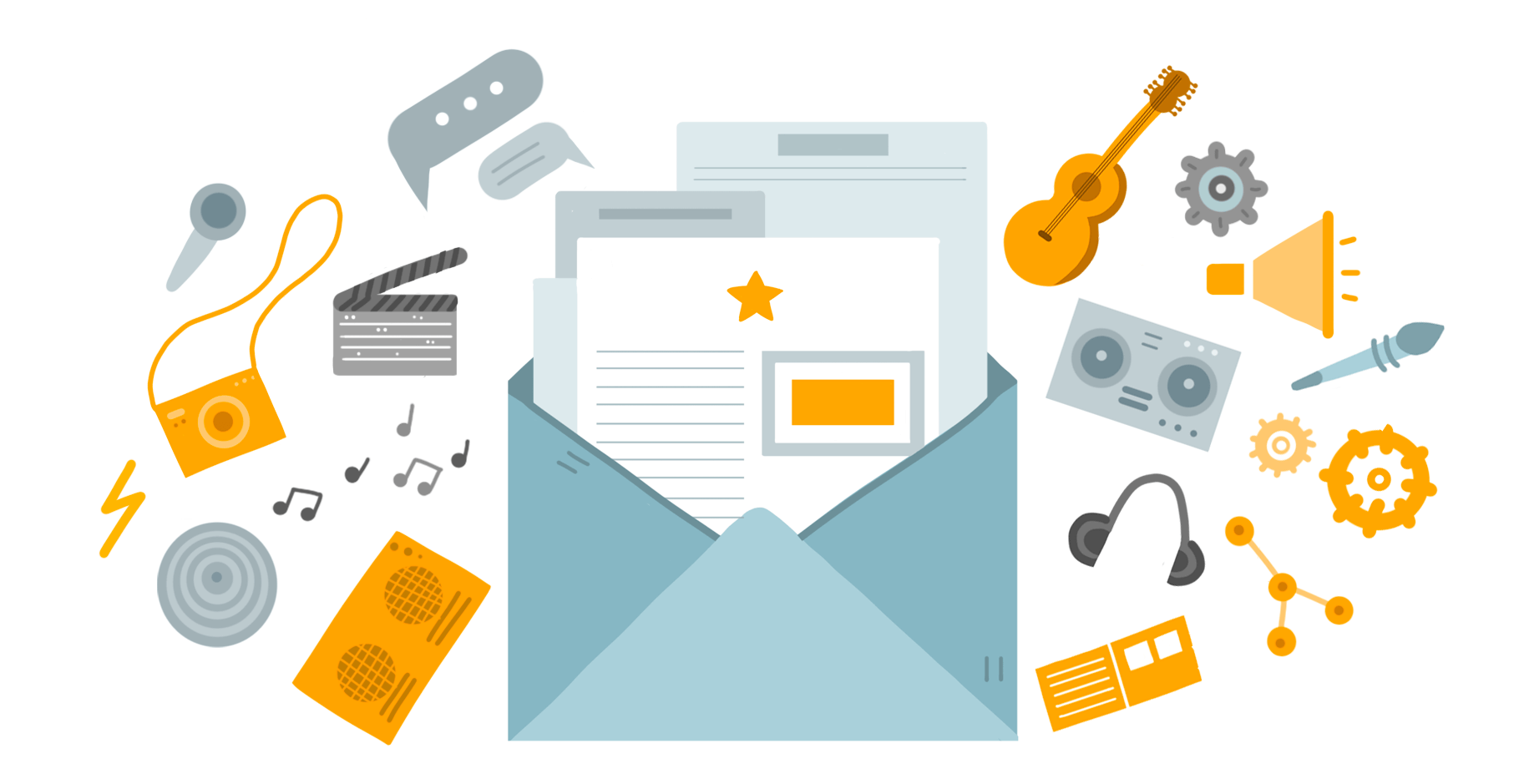«С каждым выстрелом по Украйне — Петербург и Саратов ранен». Поэзия солидарности против русско-всемирной войны

Заглавную иллюстрацию к подборке антивоенных стихотворений нарисовала / Айгуль Берхеева , Дискурс
Оглавление
- Стихи о сложной ситуации (2015-2020)
- «Мама, мама, война, война!..»
- «Я даже не могу вспомнить...»
- «Боишься, мальчик, сравнивать свой дом...»
- «Качество у звука безобразное...»
- Распад
- Литпроцесс
- «говорить о невозможном...»
- «Нет стихов — застряли, кажется...»
- (М)орг вопрос
- «Если под пальцем Я...»
- Судя по новостям
- Двадцать восьмой день
- Мирному времени
- «Я хорошо помню кадры...»
- «Всё, что я говорила, не будет прежним...»
- «поздно листать новости и фейсбук...»
- «Васька, когда я беру тебя на руки...»
- |||назвать|||каждого|||по|||имени|||
Вина и стыд пронизывают антивоенную русскоязычную поэзию сегодня — сочувствуя жертвам, поэты выступают против разжигателей войн и размышляют о человечности, ответственности и солидарности. Литературный критик Степан Кузнецов по просьбе Дискурса собрал 20 написанных с начала войны стихотворений авторов разных политических и эстетических взглядов. В пацифистских строчках русская агрессия резонирует с национальным культурным кодом, а звуки разрывающихся снарядов — с голосами в телевизоре; довоенное время кажется летаргическим сном, смерть спасает от невыносимой жизни, Пушкин и Бродский разлетаются мраморной крошкой, а давно сгнившие скрепы рассыпаются на куски в русско-всемирной войне.
Поэзия после катастроф, что уже случились — возможна, поэзия во время войны уместна. Пожалуй, эту формулу хочется произнести в самом начале — она будет ответом на все провокационные вопросы о месте поэтического слова сегодня. Хотелось бы даже сказать, что нужна, а не просто уместна, но лучше обойтись без обобщений и выяснения того, что более, а что менее важно в эти дни. Поэзия была и остается одним из средств, что позволяет человеку «воззвать из глубин» к себе и окружающим, язык, который используется в случаях, когда повседневного лексикона мало, когда он слишком профанен. «Стихотворение — это молитва потерявших Бога», — сказала немецкая поэтесса Герта Мюллер, и это может быть так. «Если нам не удается найти собственные слова для выражения своих чувств, поэзия находит их для нас», — написала Агнеш Хеллер в статье о поэзии после Холокоста. Но поэзия, продолжает венгерский философ, даже если и не находит нужный язык — это то, что нарушает молчание — молчание греховного сознания, молчание стыда, ужаса и бессмысленности. Опять же — обойдемся без сравнений, но просто укажем, что эти выделенные Хеллер четыре молчания ощутимы и относительно сегодняшних событий. И все молчание в этих четырех ипостасях — как может и для кого может — нарушается поэзией — та всплывает в уме стихотворениями из школьной программы, строчками из песен, она возникает на площадках блог-платформ, под пальцами тех, кто никогда стихи не писал. Мы читаем, пишем и слушаем, и чтобы остаться в ладу с собой, и чтобы напоминать себе, что колокол звонит и по нам. Антивоенная поэзия сегодня — опять же не будем сравнивать с другими практиками — это сострадание жертвам, поддержка субъектности, протест вармонгерам.
Какая она, поэзия трагедии, бойни и катастрофы этих дней? Очень разная, ею свою солидарность проявляют люди разных политических взглядов и эстетических предпочтений. Хочется представить ее, насколько возможно, во всем многообразии, выделить мотивы, обозначить проблемы, которые ставят себе авторы таких стихотворений. Хочется обратить внимание на поэтические инициативы, которые сейчас существуют и дают свой отклик происходящему. Это проект «NO WAR - Поэты против войны» от KRiK Publishing House, это канал Станислава Бельского с переводами украинской поэзии, это «Вестник оппозиционной русскоязычной культуры» Линор Горалик, посвященный теме «Война России против Украины». Мы будем благодарны, если вы поделитесь похожими примерами.
Задача представленной подборки — обозначить возможно больше голосов, тем, поэтик. Стихотворение Татьяны Вольтской представляет эмоциональное переживание ужаса и вины, экспрессивная сбивчивость его ритма сочетается с доступностью традиционной просодии. Верлибр Евгения Никитина обращает внимание на войну как точку разрыва и пересборки взгляда на свое прошлое. В стихотворении Александра Амчиславского русская агрессия остро резонирует с русским культурным кодом. Юлия Фридман обращается к антивоенным строкам Галича и Гамзатова. Виктор Фет говорит о крахе русской культуры прямо: «Пушкин и Бродский разлетаются / мраморной крошкой/…в Мариуполе, Чернигове и Ирпене». «Все что написано / стало бессмысленно» — пишет Андрей Грицман, признавая уместной лишь «просодию протоотчаяния». Кризис языка, неспособного говорить «невозможное» обозначает Канат Омар, с ним из почти что противоположного поэтического лагеря соглашается Сергей Тененбаум: «вместо [стихов] стекает кашица — / всё, что я теперь изрёк». Эмилия Деменцова находит язык для своей поэзии в мрачной игре слов, Вера Павлова — в осмыслении бытового наблюдения: «Если под пальцем Я, /, а на экране Z, / надо сменить раскладку». Мария Лобанова, напротив, концентрируется не на языковых метаморфозах, а выходит к прямому высказыванию, в котором только и возможен крик и доступ к перекрытому воздуху. Поэзия Али Хайтлиной сохраняет привычный силлабо-тонический строй, но каждое стихотворение само по себе становится почти что дневниковой записью — на каждый день войны. А в стихах Лизы Демченко размывается грань между фикциональным и автобиографическим: фотография матери времен Чеченской войны становится поводом для размышления о войне сегодняшней. Также и Игорь Померанцев из документов, воспоминаний и впечатлений собирает общую картину о связи поколений, лишенных прямой коммуникации со свободном миром. В стихотворении Александра Скидана строчки выглядят как руины прошлого, озираемые ангелом времени, тогда как текст Дмитрия Герчикова — обращение к будущему, с надеждой на освобождающие возможности его взгляда и языка.
Собрание стихотворений открывается работами донецкого поэта Игоря Бобырева «Стихи о сложной ситуации (2015-2020)». Хотя подборка посвящена русскоязычной поэзии (будет правильным посвятить украинской поэзии отдельный и подробный материал), завершает ее стихотворение украинских поэтов Даши Гладун и Лесика Панасюка, переведенное Станиславом Бельским.
Стихи о сложной ситуации (2015-2020)
*
все знают что во время войны
в мою квартиру попал снаряд
а так как это было зимой
мы перешли жить на другую квартиру
которая не пострадала
там было очень холодно
так как нигде не топили
я сидел дома и у меня изо рта шел пар
*
недалеко от моего дома течет река
там есть такая дубовая роща
и на ее краю бьется родник
вода в нем теплая даже зимой
на дне видны пиявки и разные жучки
*
я смотрю за окно
выпал снег
а было еще очень тепло
и все стало таять
и люди стали месить эту грязь
*
выпал снег, а окна у нас не было
и на окно налепили пакет
и мы стали чувствовать себя
чем-то вроде овощей
*
бабушка говорит что снаряд упал за окном
но ей говорят что это не так
так как про это молчат в телевизоре
*
мне часто говорят что это все видимость
и никакой войны нет
возможно это и так
но когда начинают бомбить
я делаю аудио запись для этих людей
но они продолжают говорить [что это] «ничего страшного»
*
бабушка умерла и ее вынесли через окно
и всем стало грустно
словно свет какой погас изнутри
и все стали молчать
*
комната ожила и засияла каким-то немыслимым цветом
когда нам вставляли окно
потому что раньше мы жили как в окне телевизора
*
я часто читаю стихи людей находящихся в сложной ситуации
а вы тоже находитесь в сложной ситуации?
вот я нахожусь и даже это уже понимаю
но многие говорят что это не так
и многие может быть правы
потому как меня начинают бомбить
они смотрят на это в окно телевизора
*
вспомнил историю фолкнера
как один человек согласился
написать предисловие к его книге
если ему не придется ее долго читать
в нашем мире все делается по тому же принципу
*
помню один раз поэт в.
сказал не одного вас бомбят
зачем привлекать наше внимание
великий поэт ты мог бы сказать
умирайте молча как евреи в концлагере
молча как в сталинских лагерях
но нет ты не смог промолчать
«Мама, мама, война, война!..»
Мама, мама, война, война!
Эхо в сердце — вина, вина.
Загорелся Херсон к рассвету –
Мне за это прощенья нету:
Подожгла-то — моя страна.
Это с нашего большака
Серых танков течёт река –
Это я их не остановила,
И поднимут теперь на вилы
С нашей улицы паренька.
Мама, мама, из-за меня
Нашим хлопцам кричат — русня,
Убирайтесь, мы вас не звали!
И друзья ночуют в подвале
В милом Харькове — из-за меня.
И в Жулянах горят дома.
Я, наверно, схожу с ума –`
С каждым выстрелом по Украйне –
Петербург и Саратов ранен,
И мой дом накрывает мгла.
Это я виновата, я,
Что с убийцею, страх тая,
Проживала в одной квартире:
Вот стоит он мире, как в тире,
Карту комкая и кроя.
Мама, мама, война, война!
Эхо в сердце — вина, вина.
Кто горит, кто убит, кто ранен?
С каждым выстрелом по Украйне –
Убывает моя страна.
«Я даже не могу вспомнить...»
Я даже не могу вспомнить,
что я чувствовал до войны,
о чем думал.
Одни лоскутья памяти.
Словно это был какой-то
летаргический сон.
Мы не все проснулись.
В Википедии описывается
жизнь Ивана Кузьмича Качалкина.
22 года Иван Кузьмич Качалкин
находился в состоянии «живого трупа»,
как выразился академик И. П. Павлов.
Проснувшись, Иван Кузьмич Качалкин
сообщил, что «понимал,
всё, что происходит, но чувствовал
страшную, неодолимую тяжесть в мускулах,
так что ему было даже трудно дышать».
«Боишься, мальчик, сравнивать свой дом...»
Боишься, мальчик, сравнивать свой дом
с могилой под ракитовым кустом,
где тот же кот учёный, зэк верчёный
откидывает карту на потом,
банкует так, чтоб дальше, опосля,
уж как убьют посла, нагнут козла,
яичко не простое, заводное
со зла рябая курочка снесла,
и там не важно — осень ли, весна,
сторонушка воспрянет ото сна,
пойдёт писать губерния вприсядку,
и мы начертим ваши имена
и годы жизни. Господи еси,
народ пасти подольше попусти!
Яичко в красный день заполыхало,
теперь за сотню лет не разгрести!
Смеялся котик, усики торчком,
кружилось блюдце с детским молочком,
горел во лбу малиновый околыш,
да так, что все как милые ничком
землицу жрали, братики, за страх,
пока наш паровоз на всех парах
летел и комиссары в пыльных шлемах
палили с вышек на семи ветрах.
А сгинувшим — ни тризна, ни парча,
лишь справка от тюремного врача,
эх, отгорел восток зарёю новой,
одна чадит лампада Ильича,
заветная, и слабнет на ветру,
я бедную в предбанник уберу,
всё те же мы, нам целый мир — чужбина…
Когда она погаснет, я умру.
«Качество у звука безобразное...»
Качество у звука безобразное,
Прыгают колонки на столе:
«Граждане, отечество в опасности,
Наши танки на чужой земле!»
Наши танки, наша артиллерия,
Наш солдат сквозь визоры глядит,
Городские вены и артерии
Наша авиация бомбит.
Не приходит сон, а если все-таки
На изнанке смерти забытье,
Наши мертвые, из нашей крови сотканы,
Шепчут нам проклятие свое.
И, с полей кровавых не пришедшие
Восемьдесят лет тому назад,
Белыми тактическими шершнями
К нашим танкам с криками летят.
Распад
Империя кончает самоубийством в живом эфире
на русско-всемирной войне.
Пушкин и Бродский разлетаются мраморной крошкой,
но не в тире,
а в Мариуполе, Чернигове и Ирпене.
Сгнившие скрепы
разлетаются в щепы,
превышая скорость и света и тьмы.
Догорают страницы учебников.
Вспоминается Хлебников,
прятавшийся в Харькове сто лет назад,
в психбольнице, вычисляя свои алфавиты
звёзд, империй и птиц,
сроки полураспада
и рая, и ада.
Разве мы не знали,
что ад не имеет границ?
Но ведь нам обещали
не ад, а рай на земле.
Где и когда закончится
начавшееся в феврале?
Литпроцесс
Строфы и строки
Премии грамоты
Русская грамота,
анжамбеманы
Прения, чаяния
Силлаботоника
Резко, как выстрелом — все позабыто
Только просодия протоотчаяния
Только подсчеты заметки и списки
Стингеры, Танки и БТРы
Сводки, сирены, черные скверы
И перебежки в радиус риска
Все что накатано
Все что написано
Стало бессмысленно
В зоне безумия
Харьков, Херсон, Мариуполь и Сумы
В жженном мозгу
Бешеным зуммером
Вот и хватило на век наш
Беспамятный
Крови текучей
Горючего черного
Жовто-блакитного от возгорания
Рваное жовто-блакитное знамя
Реет над нашим обугленным зданием.
«говорить о невозможном...»
говорить о невозможном
каким-то мёртвым языком
которым только мертвецы
только и могут
и звери птицы насекомые
рыбы и невидимые
и отправлять в дрожащий хор
над головою у беззвучных
лучащихся сквозь людоедский
рык
разъярённое немотство
«Нет стихов — застряли, кажется...»
Нет стихов — застряли, кажется.
Встали колом поперёк.
Вместо них стекает кашица –
всё, что я теперь изрёк.
Наше время не рифмуется
с временами добрых дел.
Для жестокой тёмной улицы
я труслив и мягкотел.
Это время — время гнусностей
и возврата в духоту.
Остаётся только устно с ней
непечатно хохотнуть.
Мы не Штаты, не Британия;
ты не немец, я не грек.
Не помогут причитания,
слабость нынче — тяжкий грех.
Нет стихов, одна бессонница,
только тремор пустоты.
Лишь болеется да стонется,
если жив и не остыл.
(М)орг вопрос
У моей страны глаза с п (р)оволокой.
Только моргнешь, смотри, поволокли кого-то.
Те, кто там и тут тут как тут чуют ворогов
Среди тех, кто их на горбу тянет волоком.
Видят ненавидимых в вечном сне да вповалку
И про валовой, как на духу, наповал лгут.
Что-то шатко стало вдруг, что-то валко
И сверкает то ль Вальгалл, то ль мигалка.
Настроение фигово –
Каждый день встречать ab ovo.
Ограничьте чесслово, братцы а?!
Мое право, да на доступ к информации:
Слушать не могу как под ovации
Довел лидер страну до ovуляции.
Покровительственный тон
Переводит в полусон.
Но работает во всю полигон,
Размозжая человека о закон.
Неугодных не сошлют на Плутон,
но к Плутону за кордон под тромбон.
Про сыгравших в ящик и по ящику:
Кому гибель от арбуза, кому — свиной хрящик.
В репортажах — трэш про морги и про корги,
А мне бы фреш из позитива — гутен морген.
Без особого прознал я себе проку, что по курсу
30 моргов — волока.
У соседей в Литве и Польше за пригорками
Площадь мерили волоками да моргами.
Морг есть то, что человек за день скосит.
А не то, что его унавозит.
Морг он морген, то бишь утро пусть и трудное.
Морг про жизнь, а не про пагубу паскудную.
А у нас месторожденье хоть и рудное,
Но по всему видать дела его скудные
Оглядевшись в обстановке сейсмической
Разорвать бы наш союз МОРГанатический.
Но прописал здесь парторг всем восторг,
И неуместен даже торг — сразу в морг.
Голоса, как колоса, рубят — свалка.
И такси везет с тарифом катафалка.
Что-то Божьи жернова мелют медленно
Но не медлят зато в нашей геометрии.
Утверждают розничные оптоволоконно.
Разнарядку хору — вторить похоронно.
Гниет рыба с головы и до молоки,
В этом годе снова выросли оброки.
Слышу № 5 не Шанель, а Поллока,
В заоконном — конная, мы — под пологом.
Колокол громко бьёт, бьют и вокруг да около.
Здесь, где един эпилог — всегда и опять «об Гоголя!»
«Если под пальцем Я...»
Если под пальцем Я,
а на экране Z,
надо сменить раскладку.
Плачет душа-швея —
места живого нет,
некуда класть заплатку,
нечем стянуть края.
Выключить в спальне свет,
поцеловать в лопатку,
в шею. Душа моя,
сколько нелётных лет
ждёт впереди экспатку?
Судя по новостям
В день св. Валентина над Украиной закрывается воздушное пространство
Ощущение, что кто-то перекрывает воздух, а не просто перестают летать самолёты
Ощущение, что мир сошёл с ума
Хочется кричать, так сильно, как только возможно, как в горах, чтобы эхо распарывало острым лезвием перины молчания
Хочется кричать прямо в ухо — господин президент, очнитесь наконец-то, почувствуйте себя без державного яблока, без одежды и охраны, без стен, почувствуйте себя голым в траве, голым и одиноким
Может стоит засесть в ретрит вместо фб, научиться муравьиной выносливости и заячьей мягкости, слоновой уверенности и волчьей хватке, змеиной чуткости и птичьему выживанию — стать зверем, превратить квартиру в лес, запастись валежником из книг, зарыться, забаррикадироваться, вывести себя за скобки, распилить время на кусочки словно замёрзшее масло и принимать как в ясельках
Хочу жить среди зверей, пока получается только с кошкой
молчаливая моя подруга, любит смотреть в окно и ничего не знает про Украину, не читает новостей, даже не в курсе, что такое война
Мне 41 год, голова наполовину седая, как у растущей луны, руки похожи на ветви весеннего дуба, мысли — на стихи древних поэтов, ум — на рыхлую весеннюю землю с червями и птицами, подготовленную к посеву, у меня больше ничего нет, и спрашиваю себя — что я могу сделать в этом обездоленном ледяном сиянии и у меня нет ответа
Двадцать восьмой день
Опять дежуришь у вокзала?
Давно не виделись.
Страшнее ада оказалась
Его обыденность.
Где чистит место под другое
Весна-уборщица,
И привыкаешь, встретив горе,
Почти не морщиться.
Мы делим время на сегодня
И довоенное.
Когда-то будет посвободней,
Поспим, наверное.
Когда-то были дни недели,
Дедлайны, праздники.
Дрозды сегодня так галдели,
Как первоклассники.
Вот бабушка стоит и внучка —
Пять суток в поезде.
И мелкая мне тянет ручку:
Нам далеко идти?
Как выбраться, как приподняться?
Встречаешь семьями.
Сегодня спасено пятнадцать.
Убито семьдесят.
Пятнадцать встречено, накормлено,
Почти поселено.
Но толку в том, когда укором нам
Другие семьдесят.
Покалывает будто жалом
Под сухожилием.
Страшнее ада оказалось,
Что мы прижились в нём.
Что выучили про разлуку,
Про тех, кто дома ждёт.
И тянет девочка за руку,
Пойдём, пойдём уже.
Мирному времени
(Комментарий автора: Документ — фотография моей мамы в бомбоубежище во время обстрела Грозного российскими войсками)
этот снимок сделан 24 декабря 1994 года
на нем молодая женщина в коричневой шерстяной юбке
в сапожках, чёрном свитере с ярким цветным рисунком
в очках с белой оправой (сейчас они выглядят очень современно)
ее волосы собраны, открыт лоб, она смотрит в сторону
влево относительно зрителя
сидит, даже полулежит, на зеленой металлической койке с матрасами:
белым в тонкую полоску
и еще одним — красным
на фото моя мама
ей ровно тридцать лет, у нее двое детей
две дочки, два и четыре, спят
укрытые колючим клетчатым одеялом
зеленым, как эта койка, как железная дверь
как забор в деревне или старые жигули
в свитерах и шапках спиной к фотографу
(Александр Светин/PhotoXpress)
лежим мы
вместо подушек под головами мамина меховая дубленка
сложно сказать, где я, а где сестра
кажется, я в красной шапке с помпоном
сестра — в жёлтой, по-пижонски съехавшей на затылок
и кажется, мы не боимся
мы вместе, мы в безопасности
— —
мама рядом
лишь рукавом пальто в кадр попала бабушка
в один из этих дней с ней могла случиться беда
на нее направили автомат — русские солдаты –
в шутку
они посмеялись и поехали дальше по своим военным делам
убивать террористов, убивать мирных, у-мир-ать
еще несколько человек на фото
сидят, лежат, дремлют на своих койках
тепло одетые (это почти новый год)
койки стоят в ряд у серой стены в коричнево-ржавых подтеках
ужасно звучит, но не выглядит страшно, и
нужно понимать, это временный лагерь
бомб-о-убежище
приют, привет, у-крытие
на переднем плане, нерезко, крупно
другая женщина
пятидесяти с чем-то лет
на ней пальто изумрудного цвета
и пышный платок цвета маминой юбки — некрашеной пряжи
мешки под глазами, морщины на лбу
волосы, не седые, собраны в правый пробор
она выглядит сонной, уставшей
и похожа на гору — деревья осеннего леса
под полотном тумана
другая другая женщина — спиной к нам — поправляет свою меховую шапку
таких на фото пять (не особенно современно)
две из них украшают головы незнакомых мужчин
как короны, как обручи света
в углу кадра, на фоне железной двери
фотографию мы случайно нашли в интернете
через 25 лет после того, как она была сделана
маме не нравится, хотя (странно заметить) она очень хорошо вышла
молодая, красивая, грустная
тонкая, теплая
ла--ла--я--ма--ма--мы
смотрим на эту карточку как на картинку в книге
или цветок из гербария, неживой, необъемный, но трогательный
пахнет немного пылью, немного лугом
и тем днем, когда был сорван, собран, украден, у-век-о-вечен
очелове-чен чен чеч о-че-чень странный
печальный и ясный образ
моей страны, земли
мира, войны
«Я хорошо помню кадры...»
Я хорошо помню кадры
со сгорбленными спинами
мужчин, слушающих
запрещённое радио
во время немецкой оккупации.
Фильмы были югославскими,
чешскими, французскими.
Мужчин играли лучшие актёры,
они были одеты в вязаные фуфайки
потёртые на локтях.
И отца помню,
как он перемигивался
с зелёным глазком
приёмника «Балтика».
Но нам-то повезло:
у нас и интернет, и гугл, и ЗУМ,
и спины пока не сгорбленные.
«Всё, что я говорила, не будет прежним...»
Всё, что я говорила, не будет прежним
Мир становится незалежным
История предупреждала:
Не рыдай мене Мати да Ты и раньше не особо сопровождала
Мы уж тут как-то сами
С нашим ОМОНом и шеями пережаты
С синими жопами после дубинок
Бережёного бог бережёт, а мы бомжеваты
С коллективным избитым телом
Мыслящих тростинок
В городе для парадов
Давно забытом
Сыном Твоим, заполненным стекловатой.
Губы и лёгкие трескаются, глотая
Новую весть, и сегодня не из Китая
В городе Солнца, построенном проходимцем
Мы наблюдаем: король умирает, и место
Новым принцессам, принцам,
Жёсткой работе силовиков.
Кем бы я там была, медсестрой и дурой
Помня, как парни с окраин двигают арматурой
Помню отчётливо этих хорьков
В Харькове на границе
Майдана и Антимайдана
(Не рыдай мене Мати, да Ты и ранее нерыданна)
Бегала б по больницам
Тупо ждала, как история движется
К окончательной фазе распада
Той страны, какую любила я поневоле
Но вскорости разлюбила
В семье и школе
И мне ничего не надо
Жду боевых Твоих мертвецов парада
Воскрешения частного человека
Страха не будет в нём и упрёка
«поздно листать новости и фейсбук...»
поздно листать новости и фейсбук поздно писать о личной
и коллективной вине
поздно читать ханну арендт и карла шмитта влюбленных в шварцвальд
поздно становиться ректором чрезвычайного положения
поздно стоять на троицком мосту и смотреть на самый прекрасный город в мире поздно смотреть на лед самой прекрасной реки в мире
поздно выходить на лед самой прекрасной реки в мире и писать на нем хуй войне поздно поднимать и разводить мосты
поздно оплакивать мосты поздно строить мосты поздно говорить поздно любимым
поздно их обнимать
поздно переименовывать троицкий мост в мост имени троцкого поздно говорить
ни мира ни войны
поздно говорить моя бабушка родилась в полтаве в 1909 году поздно говорить
ее фамилия была трепке фон трепке
поздно говорить что мы ссым
поздно вспоминать 2001 год валерия подорогу после вручения премии белого в кафе на литейном и его слова кого мы выбрали и не просто выбрали, а вот этими вот руками и помогли глебу павловскому и его медиа
поздно говорить блокада отечественная война лидия гинзбург
поздно говорить я предупреждал в 2003 году осторожно религия осторожно
поздно говорить геноцид первая мировая обратим штыки против империализма
как учили бакунин кропоткин и опарыши в снах бруно шульца когда он шел по улицам винницы чтобы выпить с аркадием
поздно говорить расчеловечивание
мобильные крематории
спецоперация
остается говорить
перечитай антигону верни нам наших мертвых
я хочу их оплакать
это раньше полиса раньше его насилия и закона закона-как-насилия
это сестра это брат ставшие бездонной могилой и обещаньем любви
вот это еще не поздно может быть остановить мобильные крематории
похоронить наших детей
«Васька, когда я беру тебя на руки...»
Васька, когда я беру тебя на руки, когда укладываю спать, когда развожу смесь или играю с тобой, говоря: «Па-па, па-па, па-па», я перестаю думать о войне, я не читаю эти жуткие новости, не замираю в страхе перед будущим, потому что мы — это политика: ты, я, мама, наши хрупкие песни и книжки про мышек, наш быт и даже измельченная гречка с кусочками размолотой тыквы, ежедневные прогулки и сон по расписанию — это политика, это целый мир и его ядро, где волна и частица, слово и вещь, улыбка и Сириус над домом — это смешные кубики, цветные карандаши, твои «бу-бэ-му-ма-ли-ля-пль-пль-пль», с которыми мы делим кров и говор. Нет, нам не нужна земля, монолитная и гладкая как склеп, лежащая в орденах и шрамах имперских битв, и небеса, испепеляющие возвышенным мистицизмом, с приколотым фараоновым черепом-светилом нам не нужны. Дайте нам землю-ткань, чье полотно мы будем прясти, и которая будет ткать нас, заплетая жест, память, забвение в единый узел, а потом расплетая: смотри, эти флаги зимы превращаются в прозрачных медуз, а это бродячий Мариуполь прыгнул к тельцу Москвы, которая урчит и потягивается в его горячих и мягких лапах, очнувшись от черного сна. Ты помнишь, еще до твоего рождения мама сшила тебе трех барашков? Они агенты, проводники, генераторы означающих-звёзд и нейронных огней, стражи порталов, но лишь ты знаешь их азбуку — научи нас быть вместе с псами заводов, с цифровыми лисами ночи, крылатыми объективами сердца, друг с другом, с самими собой. Васька, когда ты смотришь на мир, в нем происходит раскол: трещины ползут по лицу танка, и он плавится, превращаясь в нарисованный лес соответствий, в рой медоносных пчел. Научи нас своему булькающему языку шелеста листьев, перемещения призраков почвы, в котором диджей свет играет позвонками времени, потому что ружья должны превратиться в калейдоскопы, потому что каждый из нас должен произнести: детство — это политика, Крым — это Украина, Донбасс — это каждый из нас.
|||назвать|||каждого|||по|||имени|||
1.
триста безымянных
приходят
несут за спинами в руках свои имена
кость к кости
мышца к мышце
сложим память о них в наши стихи
2.
спасённые смертью от жизни
назовите себя
зияют дырами их рты
3.
на улице не смерть костями белеет среди листвы деревьев
всматриваешься
таки смерть
на улице не смерть расцветает на ветках деревьев
всматриваешься
таки смерть
на улице не смерть птицей поёт среди белых веток среди белого цветенья деревьев
всматриваешься
таки смерть
4.
смерть
спасшая от жизни стольких людей
назови каждого по имени
зияет дырой её рот
5.
не кости земли
не кровь неба
не голоса войны
мы
ничьи
6.
и о ком тогда вся наша память
обо всех
а слова наши ни о ком
обо всех
кости наши мышцы и кровь ни о ком
обо всех
выпадают волосы ломаются ногти западают щёки во рты
ничьи
7.
кость к кости
кровь ко крови
смерть к смерти
поэзия
ни для кого для всех
цепляется ко крови к костям к воде в кране к песку на виске к пальцам к носу к челюсти к каждому черепу репейником к подолам длинных юбок и брюк просит донести её до лучших времён хотя бы в рту кого-то из трёхста безымянных
всматриваюсь
таки вправду война
ни для кого
для всех