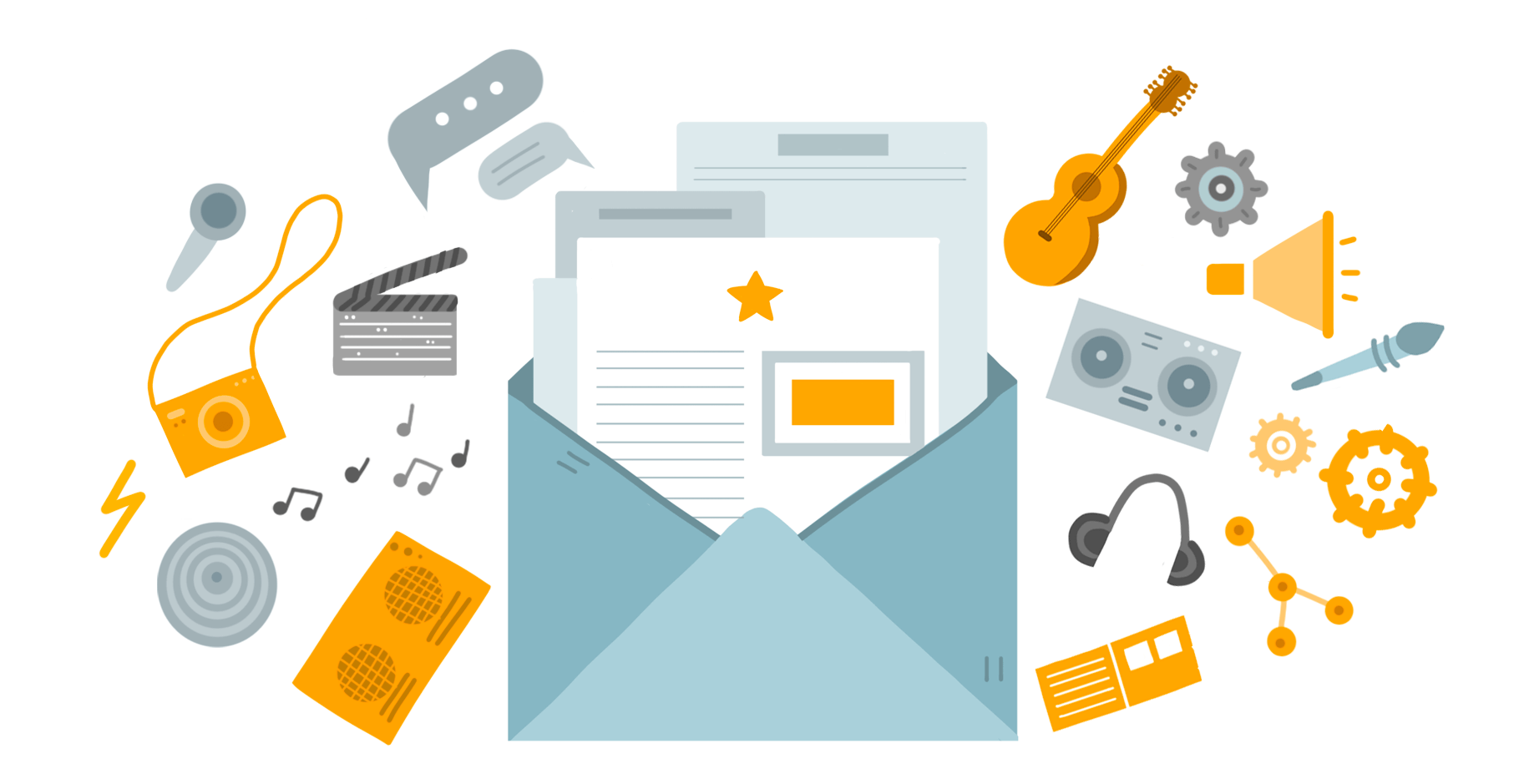Сегодня ты просыпаешься каскадёром
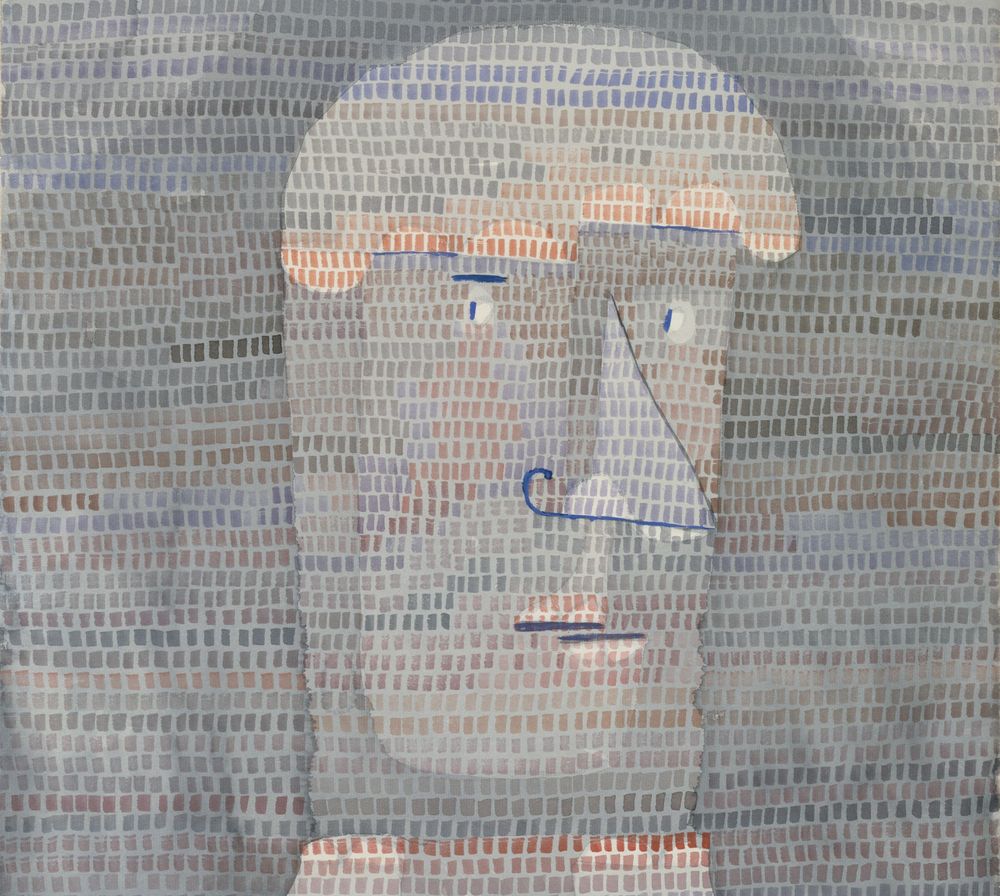
Пауль Клее «Голова спортсмена», 1932
«Сегодня ты просыпаешься каскадёром...»
Сегодня ты просыпаешься каскадёром,
жонглёром и дирижёром
сабель,
ансамблей
и ассамблей...
И, кажется, одного несложного перебора
струн Гибралтара хватит на миллиард идей;
кажется,
стоит только откинуть шторы,
как хлынет в комнату влажный на ощупь свет.
Мы будем юны и счастливы — что ты! —
теперь и всегда.
Привет!
«Тех всяких, кто меня полосовал...»
Тех всяких, кто меня полосовал, кто отпивал, не обжигаясь ядом — я помню всех, кто, оказавшись рядом, вдруг просыпался или засыпал.
Я помню фразы и ошметки фраз, наметки слов, намеки интонаций. Всех наследивших — я запомнил вас из разных улиц, городов и наций, возможно, не в лицо, по именам, по алфавиту в телефонном списке, по голосам, далеким или близким, — но по совпавшим нашим временам.
Тех всяких, кто меня нарисовал, кто извалял меня в пыли эпохи — я помню всех и каждого с дороги, кого плечом случайно задевал.
«Стеклянной дверью в темноте...»
Стеклянной дверью в темноте
балкон отмечен.
Он смотрит в комнату, и тем
бесчеловечен,
что помнит слабости других
и их привычки,
как повод встать не с той ноги
на вспышку спички.
Моя бессоница име-
ет форму шара.
Ночное облако в окне,
как дым пожара,
втекает в комнату сквозь щель
балконной двери.
Сам серый цвет мне по душе,
по крайней мере.
Небесный факел бросит блик
на тень колонны,
я окуну свой сонный лик
в одеколоны.
Полупустой на кухне трюм,
хоть сыр на блюдце...
Пойду на воздух, прикурю
от революций.
«Как всякий день...»
Как всякий день,
мой день, в конце концов,
начнется с продуктового.
Спросонья
в Москве кассирши «Алых парусов»
по большей части всё-таки Ассоли…
В столице сушь.
Без дыма, без огня,
но всё же сушь –
скупайте микроклимат!
Молчание преследует меня.
догонит – и последнее отнимет!
Рванёт рукав, повалит на асфальт,
как будто бы назло, наперекор! Ведь
я судорожно жму на Ctrl+Alt+
Delete,
но мне его не переспорить…
Мой случай – швах!
Утопия!
И кто
расскажет вам, чего мне это стоит?!
Я вижу мир, как плоское плато,
наклонное, неровное,
зато
здесь ничего совсем не происходит…
Здесь город наш – как точка наяву,
и, по отвесной глядя в неизбежность,
мы тычем в глаз большому существу,
зрачок его приняв за бесконечность,
за вывернутый наизнанку ноль,
восьмерку в перспективе горизонта…
Есть Пустота, и я – её король!
Есть Тишина, она – моя Джоконда!
И свернутый, как Мёбиусов лист,
ползёт на нас размеренно, всеядно
конец всему,
где вновь из-за кулис
смеётся Космос.
Злой.
Невероятный…
«ты — ливингстон...»
ты — ливингстон.
и каждое крыло
цепляется. царапает. мешает.
решётки в окнах, толстое стекло —
так и живём, застряв меж этажами.
ты только не смотри так тускло вдаль:
глаза, как молоко, вот-вот свернутся.
который год друг друга нам не жаль,
но жалко уронить на кафель блюдце.
не развернуться среди тех и тех
помех, препятствий, сложностей, законов.
нас выжили,
над нами взяли верх.
хоть мне твоя летучесть не знакома,
но кто-то копошится за душой,
и я с тобой сыграю в оригами...
над пропастью во ржи журавль меньшой
стартует холостыми рукавами.
и вот уже, взяв крохотный разбег,
став невесомым, как бумажный аист,
над городом картонным
человек
почти летит,
почти что улыбаясь...
и пропасть улыбается в ответ.
«В миллениум ты вышла на вокзал...»
В миллениум ты вышла на вокзал.
Казанский спал, обняв во сне Венеру.
В другую плоскость, наконец, в другую эру
никто - как ты - ещё не попадал.
Никто - как ты - ещё не пропадал
невесть куда в поворинских пшеницах...
Ловец во ржи уснул под плащаницей
и потому тебя не распознал,
не заподозрил в страсти к переменам...
Казанский спал. Миллениум молчал.
Огромный город тысячи начал
качал тебя по метрополитену,
как будто бы за пазухой качал
растущую
земную
ойкумену...
«Полночь тебе запомнится, какой ты её создашь...»
Полночь тебе запомнится, какой ты её создашь.
Так в чистоту листка впивается карандаш,
так заряжаются ружья, опустошается патронтаж,
так десять лиц, поющих «Сплин» словно «Отче наш»,
выдыхают дым и вдыхают виски…
Будто на такелаж,
звёздное небо вползает в окно на седьмой этаж,
тянется к водопою.
Место теряет голову, дом обретает речь,
смех, мелодию, песню, стих, пантомиму, скетч.
Не пренебречь собою, но городом пренебречь —
ночь стаккатит, срывается на картечь…
Млечным путем отмечено: всё, конечная
станция. Ты приехала, бог с тобою!
Каждый час ядовит. Радость и есть тот яд,
он ползёт с рукава на кисть, на гитарный лад,
отражаясь слезой в глазах, счастливых за миллиард
других, рыдающих где-то там много миль назад.
Яд у ног твоих, и ты, оказавшись над,
переступишь его, как если б не замечала;
ты войдешь с порога, мол, рассвело уже,
и становится слышно солнце на этаже.
Так искрит стекло на храмовом витраже,
что уже не придется править на монтаже.
И я молча смотрю, будто бы в мираже,
как такое счастье прыгает в неглиже
под соседнее одеяло.
До дна, Гертруда.
Пей вино до дна.
Как карточное рухнет королевство.
Твои мужья, твой сын, его невеста
и брат её – мертвы…
«Не пей вина!..» –
ты слышишь всякий раз на этой сцене,
но яд пьянит.
Гертруда, ты пьяна,
но что-то ново в этой перемене
от трезвости к смещению зрачка.
Тела, тела, тела, и слов не надо,
Лишь дробь несвоевременного града
как звук гипнотизёрского щелчка –
тревожит мир,
и тот пугливо меркнет,
отчаянно сползающий с крючка.
«До дна, Гертруда...»
До дна, Гертруда.
Пей вино до дна.
Как карточное рухнет королевство.
Твои мужья, твой сын, его невеста
и брат её — мертвы...
«Не пей вина!..» —
ты слышишь всякий раз на этой сцене,
но яд пьянит.
Гертруда, ты пьяна,
но что-то ново в этой перемене
от трезвости к смещению зрачка.
Тела, тела, тела, и слов не надо,
Лишь дробь несвоевременного града
как звук гипнотизёрского щелчка —
тревожит мир,
и тот пугливо меркнет,
отчаянно сползающий с крючка.