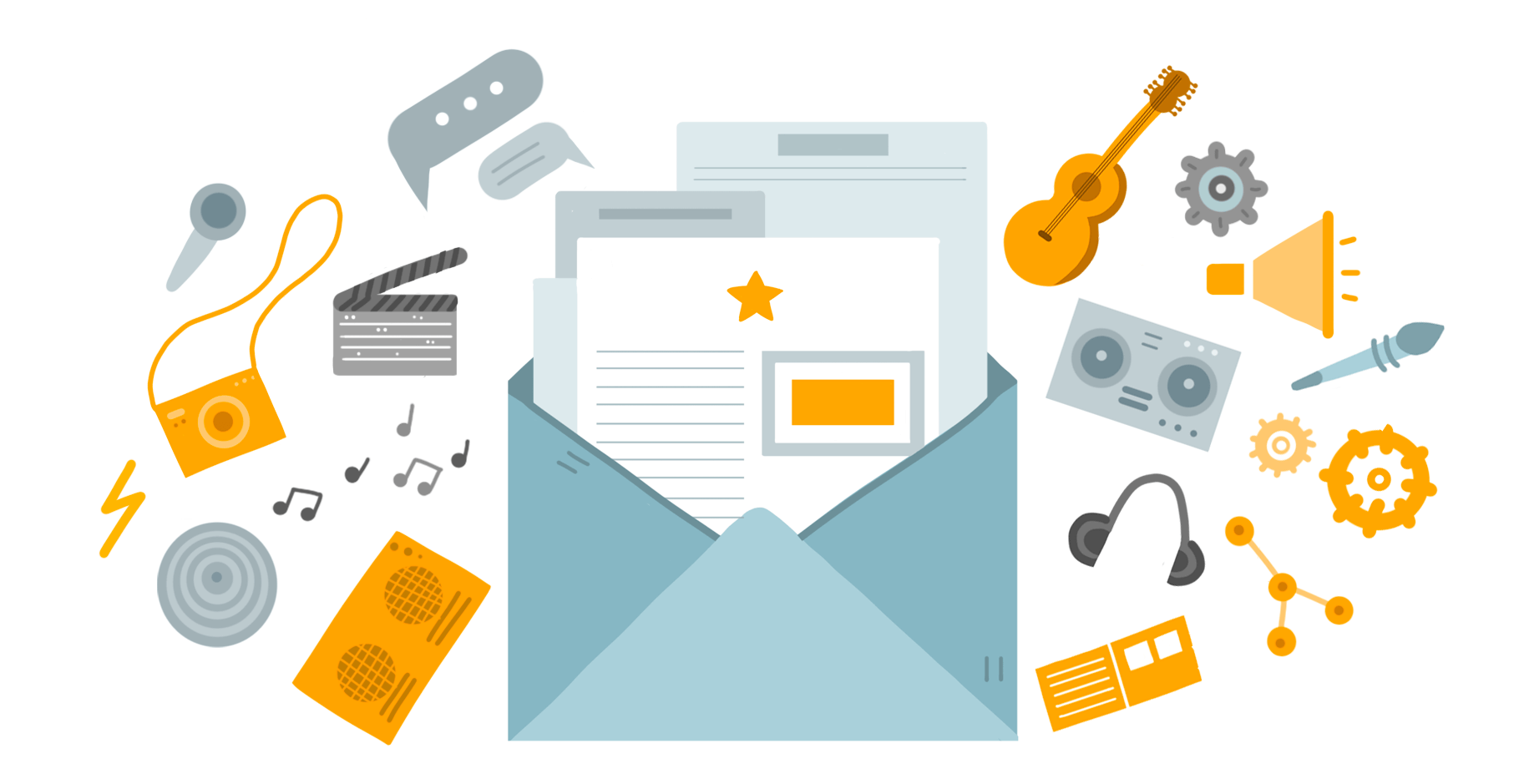Третий грех
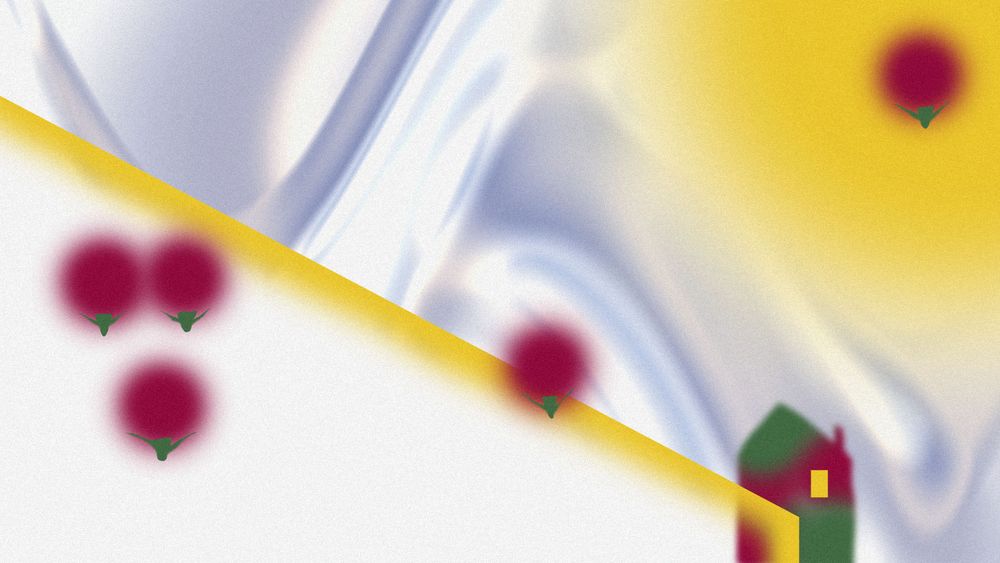
Грань, отделяющая детское восприятие мира от взрослого, очень тонка, и перейти её однажды приходится каждому. Так пятилетняя девочка Маша, героиня проникновенного переводного рассказа современной израильской писательницы Риты Коган «Третий грех», оказывается на перепутье, где с одной стороны — уютная и теплая петербургская квартира с подсолнуховыми шторами и цветочными обоями, любимыми игрушками и детскими мечтами, а с другой — безмолвный пустой кукольный домик и бледная, уставшая, постоянно спящая мама, от которой веет холодом и валерьянкой.
Искренность и никому не заметная самоотверженность, с которой Маша пытается порадовать мать, сталкивается с отчужденностью и наказывающим молчанием женщины, в свою очередь переживающей кризис и тяжелую депрессию. Тонко передавая состояние тоскующего ребенка и его пронзительное одиночество, повествование осторожно подводит героиню к двери, скрывающей новый для неё мир реальных вещей, которым управляют страшные колдуны и злые чудища, и показывает, насколько болезненным может быть опыт отверженности и первой фрустрации, когда дети встречаются с таинственной и угрожающей планетой взрослых.
Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы краше не было на белом свете.
Их пять, кроваво-красных, пронзительно-красивых гвоздик, цветов революции. Пять гордо выпрямленных головок, чьи лепестки еще не до конца распустились, на темно-зеленых стеблях, длинных и прямых, как стрелы Робин Гуда из Шервудского леса. Маше больше нравился Робин Гуд, чем Питер Пен, потому что Питер был просто еще одним гадким мальчишкой, а Робин отбирал у злых и алчных богатеев и раздавал беднякам, как положено всякому настоящему коммунисту. Иногда ей нравился и Питер тоже, но ей было ясно, что даже если он явится в один прекрасный день, то наверняка разобьет ей сердце, как разбил его Венди и остальным девочкам. Несмотря на свои пять лет, Маша отлично разбиралась в разбитых сердцах и в коммунизме.
Маша, свернувшись среди высоких подушек большого дивана, покрытого мягким ковром, смотрела как завороженная на букет. Её сердце стремилось навстречу красному чуду, распустившемуся посреди морозного и заснеженного декабря. Мама вернулась домой из школы после полудня, бледная и уставшая. Серое, низкое северное небо сдавливало голову. Цветы, завернутые в коричневую оберточную бумагу, были укрыты от холода ее толстым шерстяным сиреневым шарфом. Капли воды, стекшие со стеблей, искрились нежным узором инея на свернутой бумаге и на шерстинках и тотчас таяли в прогретой квартире. Объемистая хрустальная ваза была извлечена из серванта, теплая вода налита до половины, и пять пронзительно-красивых гвоздик были идеально расставлены в ней: каждый цветок — в собственной хрустальной складке. Как-то Маша спросила, почему мама всегда приносит букеты из пяти цветов. Мама замялась с ответом, но бабушка укоризненно заметила, что требуется нечетное число цветов. «Четное только на могилу. Живым людям дарят всегда нечетное, а три цветка недостаточно для твоей мамы, потому что у нее есть лишние деньги, чтобы тратить». «Не в деньгах дело, — отрезала мама, — а букет из трех цветов выглядит жалко».
Низкое предвечернее солнце выглянуло вдруг из-за посиневшего от инея стекла, промелькнуло-высверкнуло на выпуклостях хрусталя, затемнило большой деревянный стол, зажгло беззвучно пурпурные головки, походившие сейчас на языки вечного огня в центре обелиска неизвестному солдату. Маша видела обелиски и огонь на фотографиях в конце толстой книги о Великой Отечественной войне. Ей читать эту книгу было запрещено, потому что, кроме фотографий обелисков, в ней были черно-белые фотографии мертвых. Некоторые свисали с веревок, другие лежали голые и расстрелянные в ямах, а некоторые, худые и чудовищно белые, ползали промеж сугробов на улицах и мостах города. Город она узнала без труда — мосты над рекой и изысканные медные ограды были всё те же.
Время от времени, ворсистую тишину нарушал шелест запертой в батареях воды. Бабушка еще не вернулась с дежурства. Мама, приняв десять капель валерьянки, уснула. Немного терпкого запаха лекарства еще висело в воздухе, как напоминание о чем-то таинственном, угрожающем, принадлежащем миру взрослых и чуждому Машиному миру. Она очнулась от оцепенения и встала, чтобы притащить высокий деревянный стул из уголка пластинок. Сиденье стула было выпуклым и обтянуто темно-коричневой тканью, а ножки были заостренными, без мягкого покрытия. Поэтому она старалась волочить его по ковру, а не по незащищенному паркету. Потом забралась обеими коленками на стол. Кончиками пальцев погладила жесткие лепестки, их рубчатые края. Цветки гвоздики пахнут ничем, как снег: чистый и праздничный запах. Она приблизила к цветку любопытный глаз и заглянула внутрь нежной чашечки. Взгляд утонул и пропал в десятках оттенков красного и розового, в живом калейдоскопе, тонкой, дышащей ткани.

Неприглядную анатомию настоящего калейдоскопа Маша обнаружила, когда уронила тот, что несколько месяцев назад получила в подарок на свой пятый день рождения. Он выскользнул из её рук, когда она стояла на капитанском мостике (мамин высокий письменный стол) и разглядывала в подзорную трубу раздутый черный парус несущегося в её сторону фрегата с десятками дымящихся пушек. Две латунные крышечки оторвались от картонной трубы, и из неё хлынули-посыпались стеклянные внутренности. На звук взрыва с кухни примчалась бабушка, бедра ее обвиты передником-парусом, влажное кухонное полотенце свешивается с плеча, как почетный знак военачальников, а рукава блузки закатаны над ее полными руками. Присмотревшись к стеклянным осколкам, она всплеснула руками: «Что ты там разбила? Новую игрушку, что мама купила?» Она опустилась на колени и осторожно сгребла большие осколки. Когда увидела, что её внучка собирается спрыгнуть со стола и помочь, скомандовала ей оставаться на месте. «Чтобы не наступила босой ногой и не поранилась осколком. Именно так получают заражение крови. А пока сними эту тряпку, которой обвязала себе голову, и верни аккуратно сложенной в шкаф». Бабушка указала подбородком на красный шёлковый шарфик, который мама носила на шее в более теплые дни, а теперь красовавшийся на Машиной голове, придавая ей совершенный пиратский вид. «Счастье, что это только игрушка, а не градусник», — проворчала бабушка, возвращаясь на кухню за веником. Маша знала, что разбить градусник это тяжкое преступление. Невозможно собрать все серебристые шарики — некоторые навсегда останутся скрытыми под мебелью, а вдыхать ртуть это еще хуже, чем получить заражение крови.
Но сейчас воспоминание о разбившемся калейдоскопе ушло, осталось только желание цветов. Оглушенная красотой, Маша задержала дыхание, хрипловатое от вечного насморка. Если бы букет был только её, частное сокровище — чудесное, заколдованное! Тишина вокруг сгущалась, краснела, зрела. Наконец она слезла со стола, медленно соскользнула со стула на ковер, чтобы не разбудить маму. Если она проснется, и голова у неё все еще будет болеть, Маша может получить. Если не шлепок, то замечание, колкое и горькое, или, что хуже всего — наказание молчанием. Ступая на цыпочках, Маша прокралась в свою комнату. Проходя мимо закрытой двери в спальню, общую для бабушки и мамы, она снова затаила дыхание.
У Маши была чудесная детская. Умело подобранная мебель светло-зеленых оттенков из спрессованных опилок и из неокрашенного дерева; под потолком абажур из плотной материи, украшенный огромными оранжевыми подсолнухами; длинные, тяжелые шторы, из той же подсолнуховой ткани, которые были то потаенной комнатой, то пещерой Тома Сойера; финские обои, разрисованные тонкими стеблями и бледными почками роз. Маша повадилась тайком мазать обои зелеными насморочными потеками, стараясь мазать только на стебли, чтобы скрыть от маминых глаз. На стене, напротив кровати, висели книжные полки, тесно уставленные книгами: тоненькими, которые Маша умела читать сама, и «взрослыми», в твёрдой обложке, и без картинок. И были еще ящики, полные игрушек и кукол; письменный стол, покрытый защитным стеклом, под которым мама с Машей хранили свои любимые репродукции: «Голубую танцовщицу» Дега, «Грачи прилетели» Саврасова и портрет Пушкина работы Кипренского — портрет, полный зябкой коричневости. Правое плечо поэта покрыто домашним шерстяным платком в клетку, взгляд его уходит вправо, задумчивый и непроницаемый. Несмотря на то что Маша знала наизусть имена художников, она всегда боялась провалить материнский экзамен. С другой стороны, когда ей удавалось ответить правильно и без колебаний на все вопросы «а кто это нарисовал?», наградой ей был взгляд: «вот таких девочек я люблю!» Но самым важным в комнате, в Машиных глазах, была не красивая мебель и даже не большой ящик с игрушками, стоявший под кроватью и таивший неисчислимые сокровища (почти настоящий арбалет, чёрный пиратский меч и деревянные кубики со стёршимися буквами для строительства крепостей и башен), а миниатюрный кукольный домик, прятавшийся на маленькой полке.
Это не был обычный кукольный домик, как тот, что купили Юле, соседской девочке, которая тоже была единственной дочерью в еврейской семье и жила в том же подъезде бесконечно длинной новостройки, со множеством парадных и этажей, на улице Шостаковича, 6. Родители Юли, которая была старше Маши на год и месяц, работали инженерами, были страшно заняты, и большую часть времени, после уроков и кружков, Юля проводила в обществе своей бабушки, пожилой интеллигентной вдовы, учительницы немецкого на пенсии. Как-то, во время игры в прятки, Маша спряталась в комнате Юлиной бабушки, под страховидным креслом, покрытым шелковым покрывалом с коричневой бахромой. Сквозь решетку бахромы она увидела Юлину бабушку, украдкой входящую в комнату и достающую из-под матраса узелок белой ткани. Бабушка бережно расстелила узелок на столе, собрала птичьими движениями пальцев невидимые крошки и проглотила их. Только когда она достала из кармана халата свежий ломоть, еще сохранивший остатки хлебного запаха, Маша догадалась, что в полотняной салфетке лежит кусок черствого хлеба. Свежий ломоть Юлина бабушка аккуратно запеленала. И наконец рассталась с бесценным узлом, скрыла глубоко под матрасом и вышла из комнаты тем же мягким, крадущимся шагом. Юля, которая не верила, что Маша дерзнёт спрятаться в бабушкиной комнате так, что та не обнаружит её, продолжила ходить туда-сюда по квартире, повторяя: «Маша, Машка, ты где? Выходи!» Только по прошествии получаса, и после вмешательства бабушки, Маша выползла наружу и объявила о своей победе.
Игры в Юлиной квартире имели одно преимущество — у бабушки были знакомые из правильной Германии, и они посылали посылки с одеждой и игрушками, каких Маша не видела ни в магазинах, ни у других подруг. Среди прочего, у нее имелись различные игры-мозаики, сделанные из толстого картона, покрытого блестящим лаком, с подробными и пёстрыми рисунками, а также двухэтажный кукольный домик, с чердаком и двориком, и шестью просторными комнатами, обставленными светлой и лёгкой пластиковой мебелью.
Но несмотря на великолепие Юлькиного кукольного домика, Маша была убеждена, что её небольшая кукольная квартирка, привезенный мамой из Таллина подарок, была несравненно красивее. Её кукольная квартира, тонкой и точной ручной работы, образец резьбы по дереву, включала кухонные шкафы, окрашенные темно-зеленым, цвета ёлочных иголок, широкий обеденный стол, кафельную раковину с маленьким латунным краном, крошечную кухонную утварь, кабинетик с книжными полками, кресло, обитое оранжеватой тканью, и торшер, покрытый полотняным оранжевым абажуром.
В Машином кукольном домике никто не жил. Время от времени она позволяла одному из своих пупсов, полых пластиковых куколок в форме грудных младенцев, провести в квартире некоторое время. Но квартира предназначалась для взрослых, а не младенцев, а у Маши не было подходящей куклы. Однажды Юля рассказала ей, что в капиталистической Америке есть куклы небольшого размера, со стройным телом, длинными руками и ногами, нарисованным девчачьим лицом и настоящими волосами, густыми и удобными для расчесывания. А еще, прошептала ей Юля, у этих кукол-женщин есть грудь, ложбинка на попе, и еще одна ложбинка, тайная — та, что прячется внизу живота. Нашептываемое Машино ухо запылало. Она притворилась занятой поиском недостающей части мозаики, над которой корпела в это время, и вскоре ушла домой, под предлогом домашних дел. Маша долго размышляла о кукле-женщине и отказывалась поверить в её существование. Юля, правда, клялась, что видела одну такую собственными глазами у одной девочки, чьи родители были членами партии, и их руки дотягивались до чудес капитализма. Но у самой Юли такой куклы не было, и Маша знала наверняка, что у неё никогда не будет такой своей куклы-женщины, и поэтому её чудесная кукольная квартирка оставалась безмолвной и пустой.
Только одинокий кусочек картона странной формы, со множеством впадин и выпуклостей, сумел прокрасться в квартиру и стать там тайным жильцом. Над ним виднелось полголовы Робин Гуда, повязанной зеленым платком, чье лицо — лицо красивого юноши, выражало дерзкую храбрость. Это была одна из ста частей мозаики, изображавшего Робин Гуда и его весёлых товарищей, обращающих в бегство наёмников Шерифа Нотингемского. Дни напролёт искала Юля недостающую часть, рылась под шкафами и коврами, проверяла в десятках своих коробочек с пазлами и даже поковырялась в мусорном пакете маминого немецкого пылесоса. А всё это время недостающий кусочек стоял в дальнем углу Машиной кукольной квартиры, оглядывая единственным своим глазом, сверкающим и воинственным, библиотечную комнатку.
Маша вошла в свою комнату, медленно, чтобы не хлопнула, закрыла за собой дверь и повернулась к кукольной квартире. Сначала слегка отодвинула кухонные шкафы, стоящие вплотную к стенке полки, и достала из-за них кусочек картона, вырезанный прямоугольником. Она осторожно засунула его между двумя тесно стоящими книгами так, чтобы их твердая обложка довершила дело распрямления. После этого вернулась к кукольной квартире, немного подвинула кресло, поставила посередине обеденный стол, и разместила четыре стула, на некотором расстоянии от него, по стулу с каждой стороны. Потом достала тарелки, блюдца, чашки и стаканы из кухонного шкафа, крохотные вилки и ножи — из выдвижного ящичка, и накрыла стол. Стаканы слева от тарелок, так же и вилки, а ножи — справа. Закончив сервировку, достала между книг бумажный прямоугольник и подошла к письменному столу. Она сбросила тапочки и села, подогнув под себя ноги, на стул, обтянутый приятной на ощупь тканью. Её ступни, в старых, мягких хлопковых колготках, ненамеренно потерлись друг о друга, с наслаждением, раз и другой, под округлостями ягодиц. Взволнованный жар окутал её — не обволакивающая теплота зимнего отопления, а ритмичный озноб, предвещающий болезнь, бросающий попеременно в холод и в жар. Она приложила холодную тыльную сторону ладони ко лбу. Проверка ничего не выявила, потому что рука была горячей лба, но чувство головокружения не проходило. Маша помнила, что для надежной проверки серьезности температуры мама имело обыкновение целовать её в лоб прохладными, тревожно сжатыми губами — порхающее прикосновение губ, задерживающееся всего на несколько секунд, которое Маше хотелось продолжить еще и еще. Она уж было подумала взять градусник, хранящийся в туалетной тумбочке, в комнате бабушки и мамы, но сразу же отказалась от этой мысли. Вместо этого приподнялась над стулом, прижала лоб к холодной стеклянной панели и закрыла глаза. Удовольствие разлилось в ней. Она надавила лбом на стекло, изо всех сил, стараясь не упасть со стула. Потом открыла глаза. Цветные репродукции были так близко, микроскопической, пугающей близостью, так что она могла различить мельчайшие морщинки бумаги и исчезающие царапинки на поверхности стекла. Голубые танцовщицы шелестели юбками балетных пачек, скворцы кружились над обнажёнными деревьями, а Пушкин смотрел на неё, глаза в глаза, словно напоминая, что нужно поторапливаться.
Она подняла голову. Нужно было закончить открытку. Ещё неделю назад она тайком приготовила поздравительную открытку, которую вырезала из красивой, плотной бумаги, взятой из альбома для акварелей. Она разрисовала её новыми акварельными красками, которые выглядели, как конфеты в двойной обёртке: сперва фольга, а потом обычная бумага, на которой написано название краски, рядом с квадратиком точно этого цвета. У неё вышла чудная открытка, цветущая и солнечная, и без пятен на обороте. Только большое количество воды, необходимое для фона, сморщило рисунок, так что ей пришлось искать тайник, который бы в то же время сжимал и распрямлял.
Это будет первый раз, когда, рядом с традиционным рисунком, она напишет поздравление прописью. Читать и писать печатными буквами, отделёнными друг от друга, она умела уже полгода, но только недавно научилась писать прописью, как взрослая. Сперва напишет цифры: два и восемь, строкой ниже напишет: «любимой мамочке», и на последней строчке, с наклоном вправо и более мелкими буквами: «от Маши». Написание слов Маша отрабатывала снова и снова в задней части тетрадки в строчку. Число маминых лет и образец слов она достала у бабушки, написавшей их для неё на отдельном тетрадном листочке.

Маша достала из ящика письменных принадлежностей маленькую деревянную линейку и карандаш. Наточила его, стараясь не сломать грифель, и начертила три линии на обороте открытки — три почти невидимые линии, на расстоянии двух сантиметров одна от другой. Потом снова заточила карандаш и начала писать, медленно, с усилием, высунув язык и глухо посапывая носом. Закончив, откинулась назад и с удовлетворением стала рассматривать результат. Наконец разгладила открытку и заново спрятала на её место, позади кухонного шкафа, в кукольном домике. Потом достала из ящика тяжёлые ножницы с круглыми ручками, покрытыми оранжевым пластиком. Она не раз играла с ручками ножниц, раздвигая их, представляя причудливыми очками. Мама смеялась, что она отстрижет себе нос, а бабушка беспокоилась, что она выколет себе глаза. Маша тихонько приоткрыла дверь своей комнаты и внимательно прислушалась. Тишина всё еще укутывала окружающее, как толстое пуховое одеяло, но солнце исчезло. Тонкая полутьма, пахнущая лавандой, лилась через незанавешенные окна и распространялась по дому — сначала в углах, потом в пространстве. Мама всё еще спала.
Когда бабушка вернулась домой, тишина мгновенно нарушилась. Ключи скрежетали в двойных замках, тяжёлые сапоги «отечественного» производства (а не это австрийское барахло, которое твоя мама покупает себе втридорога и потом ходит всю зиму с мокрыми ногами и текущим носом) уверено ступали по паркету прихожей и производили шум, напоминающий эскадрон кавалеристов. «Есть кто живой тут?» — голос бабушки отражался эхом в пространстве дома, и Машу наполнила жаркая радость. «Бабушка, бабушка пришла!» — она выпрыгнула из своей комнаты и побежала к бабушке, торопясь обнять крепко-крепко её широкие бёдра, утопить голову в её большом животе, мягком, утешающем. «Ну ладно, ладно. Дай мне снять куртку. Какая жара здесь!»
«Бабушка, ты знаешь, у меня есть что-то очень красивое показать тебе!» — лепетала Маша, и её тонкий голос взлетал и наполнял квартиру. «Где мама?» — спросила бабушка, не обращая внимания на приставания внучки. Она пошла на кухню и стала выкладывать на покрытую плиткой стойку продукты, которые принесла в авоське, напоминавшей Маше нарядную дамскую сетку для волос. «Она спит. У неё болит голова». «Опять спит? А что с едой? Она приготовила что-то?» «Нет, но я не хочу есть, бабушка. Идем, я должна показать тебе что-то очень красивое!» «Ладно, ладно. Прямо как клещ в заднице. Должна, а? Ну, идём уже. Что ты там должна показать мне?»
Маша гордо повела бабушку в свою комнату, держа её за синий передник, как за узду. «Ну, что?» Бабушка остановилась на пороге двери и обводила глазами комнату в поисках чего-то нового. Маша потянула её внутрь и закрыла дверь. «Сначала это», Маша достала поздравительную открытку и с гордостью показала, держа её за края кончиками пальцев. «Что это? Поздравление? Очень хорошо! Ты написала всё, что нужно? Молодец, умная девочка. Всё? Я могу идти? Кто-то все же должен приготовить ужин в этом доме». «Нет, бабушка, иди сюда, — Маша осторожно подтолкнула её к маленькому кукольному домику, — наклонись и увидишь». Бабушка вздохнула и наклонилась вперед. Она привыкла к произведениям, которые придумывала её внучка, иногда из бумаги, иногда из желудей, шишек и сухих веточек, которые собирала на улице. Может, в этом была права её мама — девочка талантлива, не зря таскаем её на разные кружки, уроки рисования, хоровое пение, музыку.
Бабушке потребовались несколько секунд, чтобы понять, что изменилось на маленькой, полутёмной полочке. Когда глаза привыкли к темноте, она с силой закусила нижнюю губу, чтобы сдержать крик. «Что случилось, бабушка? Разве это не красиво?» «Это… это очень красиво. Мама знает, что ты их отрезала?» «Нет, это сюрприз!» — радостно ответила Маша. Бабушка приподнялась, одной рукой поддерживая поясницу, второй держась за полки, и пошла во вторую, закрытую комнату. Маша слышала скрип открывающейся двери и металлический щелчок язычка опустившейся дверной ручки, а потом приглушенное бормотание. В её сердце начало закрадываться опасение. Она бесшумно прошла в коридор и попыталась услышать, что говорится за закрытой дверью. Внезапный толчок, дверь распахнулась, и мама, в белой, тонкой рубашке и коричневом пуховом платке, накинутом на обнаженные плечи, ворвалась в комнату. Её красивые кудрявые волосы беспорядочно вихрились вокруг головы, большие очки косо сидели на носу, и странное выражение застыло в её карих глазах. Не глядя на Машу, она промчалась в гостиную. Бабушка тяжело торопилась следом. Маша прокралась за ними мелкими, неслышными шагами.
Пронзительный крик повис в комнате. «Но зачем! Зачем! Зачем она сделала это! Почему она отрезала их! Все! Почему! Она недоразвитая? Она дурная? Она хочет делать мне назло? Она всегда хочет делать мне назло!» Крик сменился прерывистым, бессмысленным рыданием. «Ну, ш-ш… она не хотела. Она хотела украсить немного. Это действительно получилось очень красиво. Она не подумала». Маша склонилась и выглядывала между ног взрослых. Пять обезглавленных стрел, длинных и прямых, темно-зелёного, воскового и блестящего цвета, были идеально расставлены в хрустальной вазе, под мощным светом восьми электрических груш большой люстры.
«Естественно, она не подумала! Зачем, разве она думает о ком-нибудь еще, кроме себя? Плохая девочка! Плохая!» Мама заковыляла из гостиной, с покрасневшим, опухшим лицом, горящими глазами и текущим носом. Маша отступила и сжалась. Бабушка появилась позади мамы, обогнала её, заволокла Машу в её комнату и захлопнула за ней дверь, заслонив своим телом проход. «Всё! Достаточно истерики! Можно подумать! Цветы! Завтра купим новые. Она не хотела. Она хотела, чтобы было красиво». «Конечно, красиво. Чтобы было красиво только ей. Только ей. Всегда только ей!» Мама подняла тонкую обнажённую руку и нанесла маленький одинокий удар кулаком в закрытую дверь. «Сколько часов… На этом морозе. Сколько часов. Чтобы назавтра у меня были… цветы». Она начала плакать, слабо и беззвучно. «Ш-ш … все хорошо. Она хорошая девочка. Она любит тебя. И ты её любишь. Довольно. Завтра придут девочки, подружки твои. Посидите, поболтаете. И он позвонит. Наверняка еще сегодня вечером. Или завтра». Бабушкин голос добавлял новые и новые слова утешения, её большие руки нежно гладили кудри дочери, поправили пуховый платок на её плечах. «Ступай оденься. Простудишься ещё. Ступай».
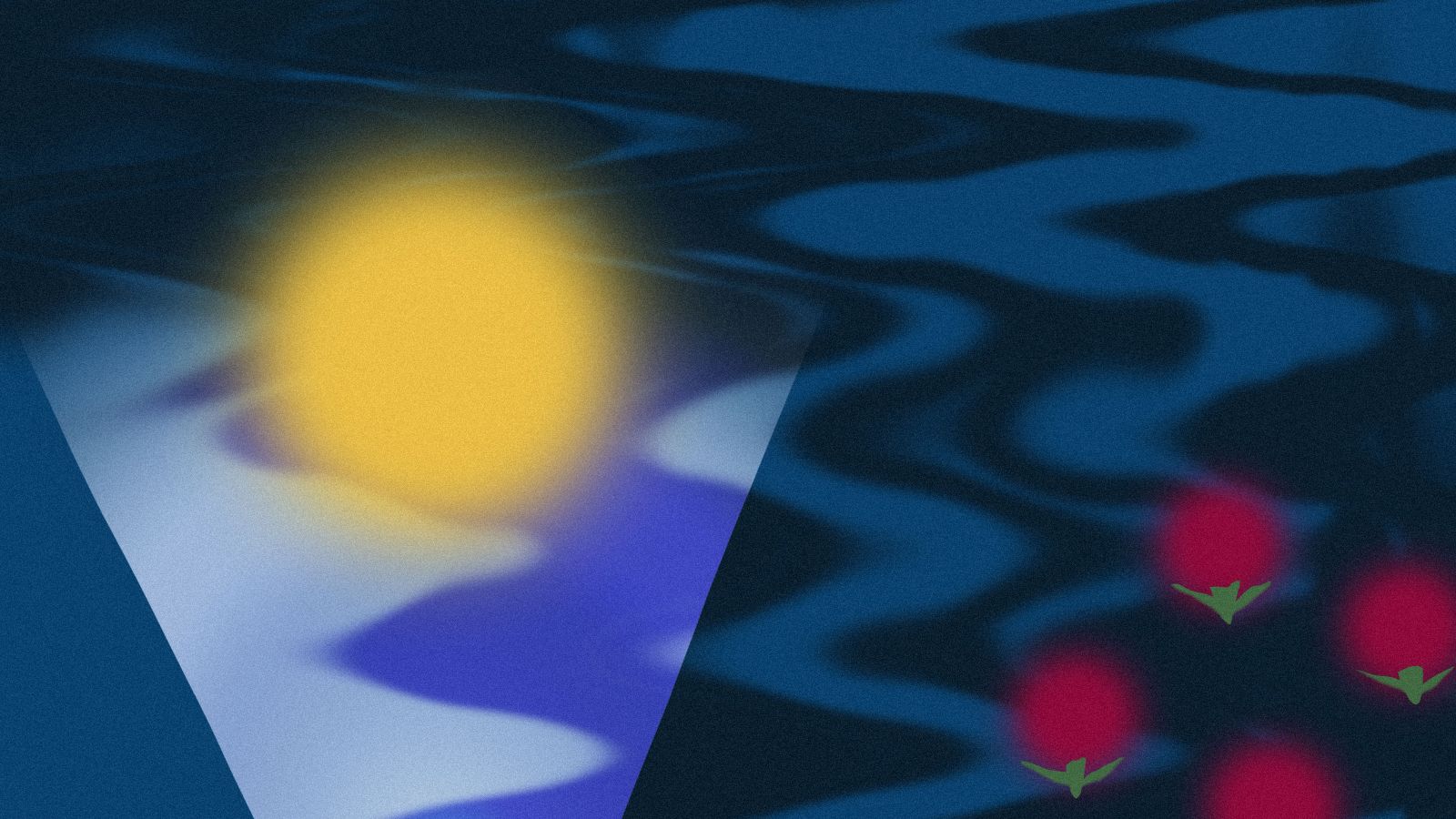
За закрытой дверью Маша стояла, будто окаменев, с силой прижав ноги одна к другой. В животе у неё урчало. Голоса снаружи затихали и отступали, и она сама затихала и отступала перед лицом вещей. Плотная тьма лилась снаружи, через два больших окна, еще не закрытых шторами. Маша не осмеливалась нажать выключатель. Она механически сняла тапочки, поставила их рядышком возле кровати, сняла колготки и аккуратно повесила их на спинку стула. Зеленоватые ступни колготок бесплотно свесились вниз, с трудом видимые в темноте. Она закрыла глаза и начала идти вперёд, босая, сначала по прохладному паркету, а потом по старому ковру, который стелили в её комнате только зимой. Она расставила руки в стороны и ставила ступни одну за другой, бесшумно, будто гимнастка, идущая по бревну, а под ней разверстая яма и темнота. Ковёр закончился, и снова холодный пол обжёг её босые ступни. Она остановилась только дойдя до окон, и там открыла глаза. Только сейчас она заметила, что одинокие снежинки, отделённые одна от другой, стали опускаться, медленно скапливаясь в небольшие горсти снаружи, на подоконниках, окрашивая тонкой белесой кистью проржавевшую игровую площадку, потрескавшийся асфальт на дорогах, горбящиеся фонари, скрывая от глаз окружающие дома, уродливые двойники её собственного дома, с их освещенными и чёрными окнами: ряды поблескивающих квадратов, будто сделанных из фольги и квадратов глухих, мёртвых. Ей нужно было хотя бы одно окно, но оконная ручка была слишком высоко, чтобы она могла достать, не пододвигая стул. Она повернулась к одной из подсолнуховых штор, свёрнутой в тугой, свисающий полотняный свиток, и завернулась в него вся. Внутри шторы темнота превратилась в абсолютную. Маша распахнула глаза, но ничего не смогла увидеть, как будто попала в трюм затонувшего корабля, как будто ворон выклевал ей клювом глаза. Её дыхание стало тяжёлым, хрипящим, и чудовища стали выглядывать из темноты, колдуны и колдуньи, крадущие время жизни у детей, дикие разбойники, хотевшие только заставить невинных людей прогуляться по рее и перерезать им глотку, миловидные мачехи, чьи настоящие, зловещие лица открываются только отражаясь в чистой родниковой воде. Она оттолкнула края шторы, борясь за дыхание, упала вниз, на пол, и поползла оттуда на четвереньках. Она ползла быстро, как младенец, пока не достигла линии маленькой полки, на которой располагался кукольный домик.
В комнате стояла темнота. Девочка сидела, сжавшись, на ковре, на полу. Тонкий белесый свет поднимался от прямоугольника поздравительной открытки, которую она держала в руках, а её лицо неподвижно смотрело в сторону кукольного домика, в котором половинка лица Робин Гуда ставила на огонь маленький чайник для четырёх алых, прекрасных головок, сидящих, каждый на своём стуле, вокруг накрытого стола, пока пятый уснул, склонившись в оранжевом кресле, над небольшой книгой.
Перевод с иврита: Борис Крыжопольский, историк, гид, специализируется на экскурсиях в конфликтных районах и зонах противостояния.
Иллюстрации для самиздата сделала Виктория Цой.