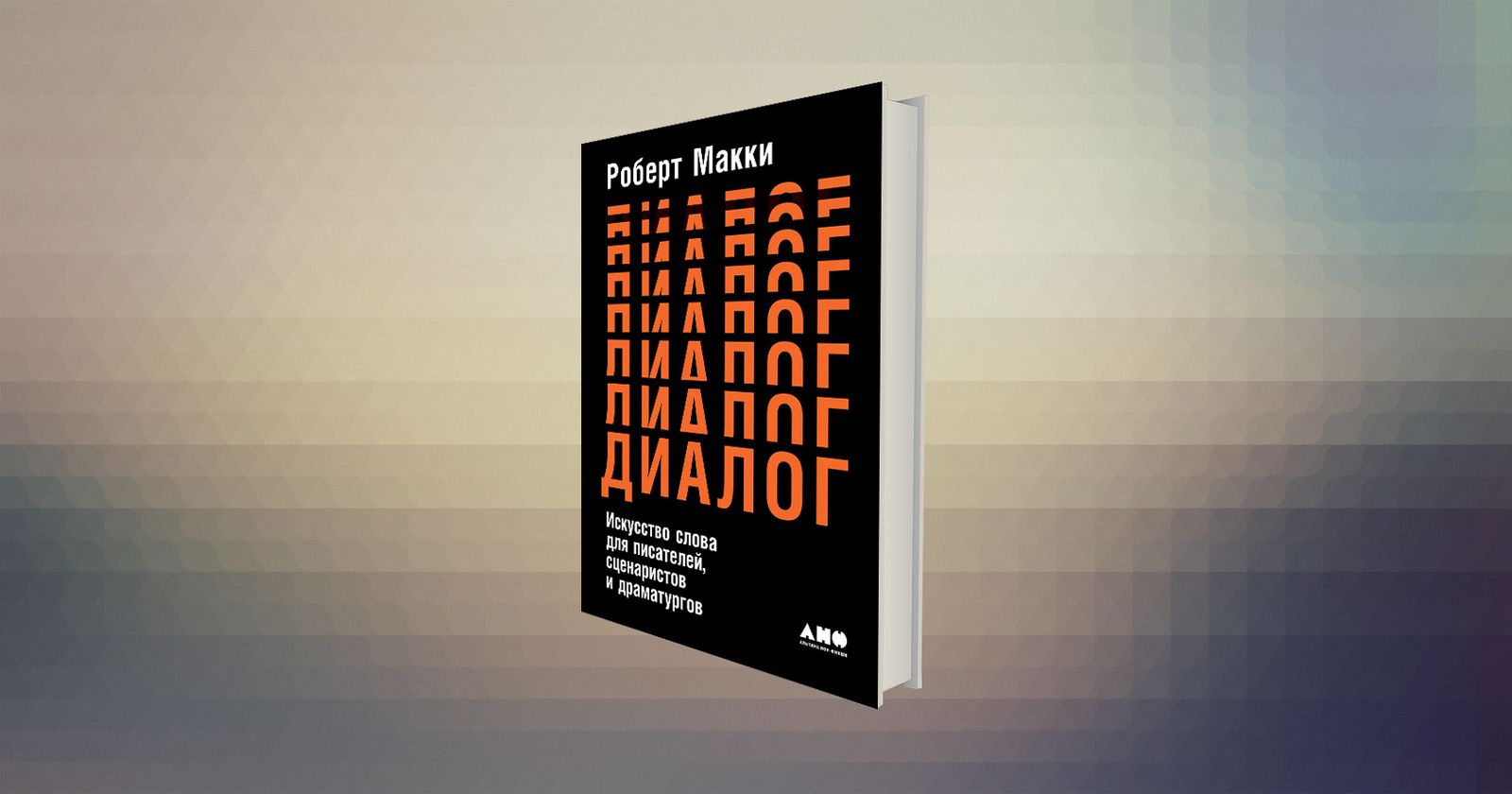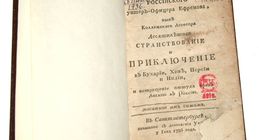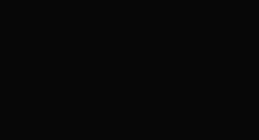Новинка от «Альпины Нон Фикшн» «Диалог. Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов» позиционируется как сборник инструментов для узкой группы мастеров письма, но на самом деле потенциал этой книги куда более серьезный. Роберт Макки создал прекрасное руководство для ведения не только искусственно воссозданных диалогов на страницах художественного или документального произведения, но и для проведения успешных дискуссий и дебатов в реальной жизни.
Роберт Макки пропагандирует идею о том, что в сценарном и даже актерском творчестве должны быть только те люди, что уже имеют достаточный багаж жизненного опыта, так что книга в какой-то мере нацелена на профессионалов практически любой области знаний, которым не хватает практики в овладении искусством правильно выстроенного разговора. Остальные же могут оттачивать с ее помощью свои способности. Сам автор ведет семинары по сценарному мастерству с 1983 года, среди его студентов значились сотрудники крупных организаций (как минимум, NASA и Microsoft), так что инструменты, описанные в книге, уже многократно проверены на практике в написании сценариев, статей, прозы и даже в ведении переговоров. Собственному мнению Роберт Макки не противоречит — он обладает достаточным уровнем знания, чтобы нести его в массы, и регулярно это подтверждает.
Автор призывает отказаться от романтических заблуждений о вдохновении, благодаря которому текст может «литься рекой», и обратить внимание на мастерство письма, силу убеждения и другие факторы, позволяющие отличить качественную работу (конкретно в рамках книги — написанный диалог) от некачественной. Для этого делает акцент на основные приемы убедительности, которые вполне реально перевести из рекомендаций по написанию реплик в практику живого разговора. Отдельного рассмотрения стоят часто совершаемые ошибки: собственно, неубедительность в общем ее проявлении, фактические неточности, повышенная эмоциональность, излишняя многозначительность, многочисленные отговорки, бессмысленность разговора. Помимо проблем убедительности Роберт Макки указывает и на общие ошибки языка (неграмотная речь выдает непрофессионализм в любой сфере), стилистические неточности, вроде постоянных повторов, и остальные важные нюансы, обычно обделенные вниманием.
В качестве доказательной базы и ярких примеров Роберт Макки приводит многочисленные выдержки из весьма известных сценариев и книг, начиная от «Юлия Цезаря» Шекспира и заканчивая «Великим Гэтсби». Конечно, например, ораторам в области политики эта работа может показаться скучной: отсылок к реальным конфликтным ситуациям в работе про диалоги нет, но это объясняется непосредственно целевой аудиторией произведения — создателями в большинстве своем художественных текстов и сценариев, а также текстовых жизнеописаний. При этом даже художественные примеры прекрасно разобраны и выступают вполне убедительными фактами в поддержку авторской теории построения правильных диалогов.
«Дискурс» предлагает познакомиться с одной из самых значимых частей книги — главными ошибками убедительности и языка, которые чаще всего и всплывают в диалогах. Именно эти знания с максимальной эффективностью можно интегрировать в повседневную жизнь, проанализировав собственную манеру вести беседу.
Ошибки убедительности
Неубедительность
Стандарты убедительности, установленные нами для физического поведения героев, распространяются также и на их речь. Диалог, написанный для телевидения, экрана, сцены, должен вдохновлять актеров на исполнение, в которое мы верим. Сцены, написанные для романа или рассказа, должны быть такими, чтобы читатель вообразил правдоподобное поведение литературных персонажей. Поэтому не важно, насколько сложна и убедительна психология ваших персонажей, не важно, насколько эмоционален и содержателен сюжет, — если ваши героини говорят сообразно своей природе, в соответствии с обстановкой, жанром, читатель/публика потеряет в них веру. Неубедительный диалог снижает интерес значительнее, чем угрюмое пение в сольном концерте.
Пустой диалог достоверностью не исправишь. Стоит прислушаться к разговорам попутчиков в самолетах, поездах, автобусах, как сразу станет ясно, что эту ни к чему не обязывающую болтовню просто так не перенесешь ни на сцену, ни на экран, ни на страницу. Болтовня в жизни — это примерно то же, что ведение мяча в баскетболе. Ей недостает живости, звучности, выразительности, а самое главное, значительности. Тянутся же деловые совещания час за часом, без всяких метафор, уподоблений, тропов, хоть какого-нибудь воображения или выразительности.
Коренное различие между болтовней и диалогом заключается отнюдь не в количестве, выборе или расстановке слов. Различаются они содержательностью. Диалог концентрирует содержание; праздный разговор растворяет его. А значит, даже в самых реалистичных обстоятельствах и жанрах достоверный диалог не повторяет действительность.
Собственно говоря, правдоподобие может вообще не иметь отношения к действительности. Герои, живущие в несуществующих мирах, как Алиса в Стране чудес, произносят реплики, которые никогда не сказал бы живой человек, однако эти реплики соответствуют и самим героям, и ситуации в целом.
В любой обстановке, от самой простецкой до самой волшебной, во всех жанрах, от военных рассказов до мюзиклов, во всех стилях речи, от односложных реплик до лирических стихов, диалог должен звучать как спонтанный разговор героев. По этой причине мы подходим к диалогу с меркой вымышленной подлинности, а не фактической точности. Слова и синтаксис, характерные для героя, не следует настолько приближать к жизни, чтобы они имитировали всю банальность повседневности. Правильнее, когда они звучат вполне естественно в контексте мира и жанра (или жанров) истории.
Читатель/зритель хочет верить, что герои за пределами страницы, сцены, экрана изъясняются точно так же, как на странице, сцене, экране, независимо от фантастичности обстановки. Даже в мире фантастическом, как у Гильермо дель Торо в фильме «Лабиринт Фавна», абсурдном, как у Эжена Ионеско в пьесе «Король умирает», поэтическом, как у Элиота в пьесе «Убийстве в соборе», или архаичном, как у Роберта Грейвса в романе «Я, Клавдий», разговор персонажей не обязательно должен быть фактически точным, но непременно — правдоподобным.
С другой стороны, кто угодно может говорить что угодно и когда угодно. Так как же нам оценить правдоподобие диалога? Как узнать, когда реплика соответствует герою и моменту, а когда фальшивит и там и там?
Эстетическая оценка никогда не станет точной меркой. По самой своей природе она равным образом и чувство, и мысль. Вы должны полагаться не на нее, а на мудрую интуицию, на чувство правды, основанное на знании, опыте, врожденном вкусе. Научитесь оценивать свой диалог, слушая то, что встает за словами, ощущая гармонию или дисгармонию причины и следствия. Диалог правдив, когда словесные действия героя резонируют с его мотивациями, когда кажется, что его внутренние желания и внешнее поведение взаимно дополняют друг друга.
Как именно вы будете оттачивать мастерство — решать вам, но, чтобы помочь на пути к этой цели, предлагаю короткий список ошибок, которые сильно вредят правдоподобию: пустой разговор, разговор слишком эмоциональный, слишком многозначительный, слишком проницательный, отговорки взамен мотиваций.
Пустой разговор
Когда герой говорит, читатель / публика ищет в подтексте мотивацию, чтобы обрести в репликах смысл. Если мотивации нет, диалог, а вслед за ним и сцена становятся искусственными и вымученными. Первое, что приходит на ум: один герой рассказывает другому, что обоим уже известно для… удовлетворения потребности автора в развитии экспозиции.
Слишком эмоциональный разговор
Когда герой говорит языком, который кажется неестественно эмоциональным, читатель/публика опять недоумевает, в чем дело, и ищет объяснений в подтексте. Если в подтексте пусто, возникает подозрение, что-либо этот переигрывающий герой склонен к истерике, либо автор старательно раздувает большое из малого. На соответствующем общественном/психологическом уровне эмоциональный диалог и его контекст должны взаимно дополнять друг друга.
Слишком многозначительный разговор
Автор должен знать то, что знает его герой. Герои — это создания автора, которые появляются на свет после долгих размышлений, бесчисленных наблюдений за поведением человека, беспощадного самоанализа. Итак, творец и творение, как пограничной полосой, отделены друг от друга. Или должны быть отделены. Но если автор нарушает границу и наделяет героя тем, что знает сам, мы ощущаем подвох. Когда герой на экране или на сцене говорит о событиях с таким знанием дела, какое может быть только у автора, или когда главный герой романа смотрит на прошедшее слишком беспристрастно для человека вовлеченного, у читателя тоже может возникнуть ощущение, что голосом героя говорит автор.
Слишком проницательный герой в соответствующем диалоге
Также бойтесь героев, которые знают себя лучше, чем вы знаете их. Когда Фрейду, Юнгу и Сократу вместе взятым далеко до проницательности, с которой описывает себя герой, читатели и публика перестают верить автору. Авторы загоняют в капкан самих себя, создавая героев с непоколебимым, избыточным знанием самих себя.
Вот как это происходит: трудолюбивые писатели пишут биографии и психологические портреты героев, создавая материала в 10–20 раз больше, чем потом используется в произведении. Так они делают потому, что обязаны обеспечить себя материалом, достаточным, чтобы оригинальность и неожиданность безоговорочно победила стертое клише. С таким объемом информации в запасе соблазн поделиться ею со всем миром становится непреодолимым. Не желая того, автор переступает черту между писателем и героем, и его творение делается рупором его «домашних наработок».
Отговорки вместо мотивации
Создавайте реалистичную мотивацию поведения героя. Чтобы подвести причину под чересчур активные действия героя, писатели часто обращаются к его детству, раскапывают там травму и выдают ее за мотивацию. В последние десятилетия эпизоды сексуального насилия стали использоваться слишком часто как единственное объяснение любых крайностей в поведении. Авторы, прибегающие к такого рода психологической скорописи, не видят разницы между отговоркой и мотивацией.
Мотивации (голод, сон, секс, власть, убежище, любовь, самовлюбленность и т. д.) суть потребности, которые движут человеческой натурой и определяют поведение. Чаще всего эти мотивы не осознаются, и очень часто создают проблем больше, чем решают. Люди изобретают всяческие отговорки, когда не желают знать правду о том, почему они делают то, что делают.
Допустим, вы трудитесь над центральной сценой политической драмы, в которой глава государства объясняет своему кабинету, зачем он втягивает страну в войну. Во всей истории человечества война одного народа против другого совершалась по одному из двух главных мотивов. Первый — жажда власти за пределами своего государства. Земля, невольники, богатства, захваченные в побежденных странах, поднимают дух победителя. Второй — жажда власти в пределах своего государства. Когда правители опасаются потерять свою силу, они развязывают войну, чтобы отвлечь внимание народа и снова захватить власть в своем государстве (оба эти мотива описаны в шедевре Джорджа Оруэлла «1984»).
Эти две мотивации четко обрисовывают реальность войны, но ни один правитель, объявляющий войну, так не думает. А если и думает, вслух никогда не скажет. Итак, чтобы написать сцену, нужно «спрятать» мотивацию в подтекст, создать вождя, погруженного в самообман, а потом уже написать его диалог, чтобы создать основу для отговорки, в которую верят и которую принимают другие герои.
Бывают и такие отговорки, к которым адепты прибегают уже много веков: тут и «спасение душ для Бога» (крестовые походы, Испанская и Оттоманская империи), и «озарение светом цивилизации тьмы дикости» (Британская империя), и «предначертание» (геноцид коренных американцев), и «борьба за чистоту расы» (холокост), и «от тирании капитализма к равенству коммунизма» (русская и китайская революции).
В качестве примера отговорки, замаскированной под мотивацию, рассмотрим трагедию Шекспира «Ричард III». В первой сцене первого акта Ричард, горбатый герцог Глостер, говорит, что его уродство настолько отвратительно, что он «не создан для забав любовных». Он говорит о себе «я груб» и на этом основании без колебаний убьет всякого, кто встанет между ним и троном.
Далее в той же сцене происходит разговор Ричарда с леди Анной, красавицей-вдовой недавно убитого им соперника. Она ненавидит Ричарда, проклинает его, называет дьяволом. Однако Ричард, несмотря на то что уродлив и кругом виноват, начинает образцово-показательную кампанию психологического соблазнения. Он заявляет: так как Анна — совершенство, а он горячо любит ее, ему не оставалось ничего другого, как убить ее мужа в надежде заполучить ее саму. После этого он падает на колени и протягивает ей меч — пусть убивает его, если хочет. Она отказывается, и в конце сцены благодаря смеси лести и жалости ее сердце смягчается.
Ричард являет себя здесь искусным соблазнителем. Почему же он упорно утверждает обратное? Потому что нужна отговорка, которая замаскировала бы его жажду власти.
Чтобы написать интригующий, многослойный, внушающий доверие диалог, уясните разницу между двумя главными пружинами человеческих действий — мотивацией и оправданием. После этого посмотрите, не скрывается ли подсознательное ваших героев за сознательными отговорками, или, по крайней мере, каков смысл их необъяснимого поведения, что добавляет глубины их словам.
Чаще всего ложный диалог свидетельствует не об исключительной уверенности и осведомленности писателя, а об обратном: о повышенной нервозности и отсутствии школы. Боязнь — естественный побочный продукт невежества. Если вы не знаете про своего героя ничего, кроме его имени, если не можете представить себе, как он реагирует, если не слышите его голоса, если пишете наугад, ваша рука не выведет ничего, кроме фальшивого диалога. В тумане незнания ничего другого не может получиться.
Значит, потрудитесь наделить своего героя знаниями и фантазиями. Примерьте его черты на людей, его окружающих, а самое главное, на себя самого. В конце каждого дня спрашиваете себя: «Если бы я был героем и оказался в этом положении, что бы я сказал?» И прислушивайтесь своим тонко настроенным ухом к честному и надежному внутреннему голосу.
Мелодрама
Прилагательное «мелодраматичный» обрекает произведение на избыточность во всем — говорят в них громко, страдают жестоко, переживают слезливо, а сексуальные сцены находятся почти на грани порнографии. В то же время шекспировский «Отелло» безумствует от убийственной ревности; в фильме «Дикая банда» Сэма Пекинпы насилие оборачивается поэзией кинематографа; мюзикл «Маленькая ночная серенада» Стивена Сондхайма основан на глубоких, болезненных чувствах; в шедевре Нагисы Осимы «Империя чувств» мы имеем дело с сексом в чистом виде, но ни одно из этих произведений не мелодрама.
Задолго до того, как Эдип лишил себя зрения, великие сочинители озаботились границами человеческого опыта. Художники XXI века продолжают этот поиск, понимая, что человеческая натура бездонна и безгранична. Поверьте мне: что бы вы ни заставили делать своего героя, найдется тот, кто где-то когда-то делал то же самое.
Поэтому проблема мелодрамы заключается не в излишней выразительности, но в недостаточной мотивации.
Когда писатель насыщает сцену наигранными репликами, которыми герои обмениваются, как ударами в пинг-понге, всячески скрывая раздражение, когда он поливает лица героев водопадами слез в надежде, что удар судьбы покажется трагическим, или когда он форсирует реакции персонажей, мы все же не скажем, что это — мелодрама.
Значит, мелодраматический диалог характеризуется не только подбором слов. Люди могут делать что угодно и говорить при этом что угодно. Если вы представляете себе, что ваш герой выражается горячо, настойчиво о чем-то просит, ругается или даже богохульствует, тогда и усильте его мотивацию, чтобы она соответствовала действию. Как только поведение уравновешивается с желанием, отступите немного и спросите себя: «Не слишком ли это для моего героя?»
Сравним два варианта гипотетической сцены с отрубанием головы, например в «Игре престолов».
Для этого допустим, что в «Игре престолов» развивается сюжетная линия, в которой два короля изматывают друг друга в затяжной войне до кровавого, победного конца. Затем наступает кульминация: король-победитель устало сидит на троне; поверженный противник стоит перед ним на коленях, ожидая решения своей участи. Придворный обращается к королю: «Чего вы желаете, сир?» И тут король взрывается: «Переломать ему все кости! Зажарить кожу, содрать ее и засунуть ему в рот! Выдрать глаза, а голову — с плеч долой!»
Или придворный спрашивает, чего желает его величество, а король тем временем внимательно разглядывает свои ухоженные ногти и негромко произносит: «Казни его».
Подтекст этого «Казни его» подразумевает смерть столь же жуткую, как и та, о которой открыто говорится во «взрывном» варианте, но который из двух ответов лучше передает ощущение личной власти? Оглушительный, грубый рык или тихое, спокойное «Казни его»?
И тот, и другой ответ может полностью соответствовать персонажу, но какому? Первый рисует нам слабого правителя, не умеющего управлять даже своими эмоциями; второй — правителя сильного, владеющего собой. В мелодрамах мотивация и герой неотделимы друг от друга. То, что заставит одного героя лезть на неприступный утес, другого даже не поднимет с дивана. Следовательно, соотношение мотивации и действия будет разным для каждой конкретной роли и должно быть накрепко встроено в героя, который сначала чувствует, а потом действует.
Ошибки языка
Клише
Клише — это кочующие из произведения в произведение сцены, в которых поведение персонажей уже заранее ясно, а слова мы, кажется, можем произнести и сами еще до того, как герой откроет рот.
Клише, сорняки повтора, произрастают в дремлющем уме ленивого писателя. Множество желающих писать полагают, что дело это нетрудное, по крайней мере, не должно быть трудным, и поэтому всячески стремятся облегчить себе жизнь, копаясь на свалке старых сюжетов и находя там затасканные фразы, которые мы слышали или читали сто раз в затасканных сценах, которые мы слышали или читали тысячу раз.
Почему ленивым писателям недостает оригинальности — тайна невеликая, но зачем талантливые, профессиональные авторы, которые прекрасно все понимают, все-таки прибегают к клише? Затем, что они работают. Сегодняшнее затасканное выражение когда-то было творческой находкой.
В фильме «Касабланка» (1942) блестящая реплика капитана Рено «Начинайте аресты по списку» тремя точными словами выразила самую суть политической коррупции. С тех самых пор выражение «обычные подозреваемые» открывает список обычных клишированных подозреваемых в десятках словарных статей, посвященных клише.
В незапамятные времена некий сказитель под сводами какой-нибудь пещеры впервые описал слезинку в глазу своего героя, чтобы выразить печаль, и всех сидевших вокруг огня накрыла волна грусти. Давным-давно шут при дворе некоего правителя сравнил коварную западню противника с паутиной, и все обитатели дворца похолодели от ужаса. Пусть время притупило остроту восприятия клише, в свое время оно было таким новым, что и до сих пор в нем слышится отзвук точности.
Вот вам небольшой список клише, нередко проникающих в современный диалог: backseat driver («водитель сзади», непрошеный советчик), back to basics (вернуться к корням), back to square one (все сначала, все заново, с нуля), back to the drawing board (начать с чистого листа), bad hair day («не мой день»), bag of tricks (набор хитрых приемов), ball-park figure (приблизительная оценка), ball’s in your court (мяч на вашей стороне), bang your head against a brick wall (пытаться пробить головой стену, стараться напрасно), barking up the wrong tree (идти по ложному следу, обратиться не по адресу), battle royal (шумная драка, побоище) и т. д.
Близкое знакомство с предметом — залог комфорта. Не часто, но случается, что клише доставляет удовольствие потому, что обозначает собой преемственность в культуре. Прошлое прорастает в настоящем. Любимое в детстве любимо и сегодня. По этой причине каждодневные разговоры прямо-таки начинены всяческими клише. Ими пользуются потому, что, стертые или нестертые, они моментально понятны. Вот почему редко используемые клише привносят живость. Запомните раз и навсегда: срок годности каждого клише рано или поздно истекает, и тогда от него начинает идти такое зловоние, что мир брезгливо отворачивается.
Чтобы создать свежий, оригинальный диалог, установите планку высоко и никогда не соблазняйтесь очевидным выбором, что первым приходит на ум. Запишите основу, а потом импровизируйте, экспериментируйте, сойдите немного с ума, выдайте столько вариантов, сколько можете. Пусть ваш герой говорит все, что только приходит ему в голову. Перебирая самые невозможные сочетания, которые только можно вообразить себе, вы, может быть, поймете, что они, хоть и появились на свет случайно, все-таки исключительно хороши.
В конце дня сделайте окончательный выбор и удалите все лишнее. Никому не стоит показывать свои неудачные попытки.
Слишком нейтральный язык
Диалог, нейтральный по отношению к персонажам, подменяет частное общим.
Когда писатели применяют язык пресный, каждодневный, они всякий раз оправдываются стремлением к правдоподобию. И в определенном смысле это так и есть. Ведь стоит только беспристрастно вслушаться в то, что говорят вокруг вас, в ушах эхом зазвучат банальности и клише. Например, удивляясь, люди взывают к своим божествам. «О боже мой!» вполне естественно слетает с уст изумленного человека. А вот в диалоге та же самая фраза лишает актера возможности создать живой и уникальный момент.
Что же делать?
Спросите себя: если мой герой в состоянии шока поминает имя Божие, как он — и только он! — это делает? Если он уроженец Алабамы, скажет ли он «милосердный Господи Иисусе»? А если из Детройта — поднимет глаза к небу со словами «Господи, помилуй»? Уроженец Нью-Йорка скорее припомнит черта и выпалит: «Ах, черт побери!» На чем бы вы ни остановились, ищите слова, настолько свойственные именно этому герою, что из других уст они прозвучат неестественно.
Диалог, характерный для персонажей, мы рассмотрим подробно в части III.
Вычурный язык
Почти в самом конце романа Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» главный герой Стивен Дедалус и его друг Линч ведут спор об эстетике. Чтобы обосновать свою позицию, Стивен описывает идеальное взаимоотношение между художником и созданным им произведением так: «Художник, как Бог-творец, остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти».
Аналогия у Джойса встает на защиту такого литературного метода, который настолько гармонизирует героев и события, что рассказ, кажется, движется сам собой, без всякого автора. В приложении к диалогу джойсовская идея обращает его в разговор, столь свойственный голосам персонажей, что исчезает даже малейший намек, будто кто-то руководит ими, дергая за веревочки, как актер-кукловод. Нет — каждое произнесенное слово затягивает нас в повествование все сильнее и сильнее, так что до самого конца мы остаемся под его чарами.
Вычурность разрушает эти чары. Под «вычурным» диалогом я подразумеваю взвинченность, литературность текста, нарочитую экспрессивность, настолько несвойственные персонажу, что они невольно привлекают внимание к тексту как к таковому. Самые худшие из них как будто громко вопят во славу своего автора: «Какой же он все-таки умница!»
Подобно комикам жанра стендап, которые потешаются над своими же шутками, подобно атлетам, пускающимся в дикий танец после выступления, самовлюбленный автор торжествует свой успех. Но, как только реплика диалога заставляет читателя / публику почувствовать в ней искусство для искусства, рвется нить доверия между ним и героем.
Как мы отмечали при обсуждении условия «как будто» в главе 5, открывая книгу или усаживаясь в театральное кресло, люди переключают мысленную передачу из режима «факт» в режим «вымысел». Они знают: чтобы проникнуться историей, непременно нужно поверить в воображаемых героев как в реальных людей и переживать вымышленные события как настоящие. Так ведут себя дети, вот почему доверие к герою должно сохраняться у читателя в течение всей истории.
При этом неважно, насколько реалистичен или фантастичен избранный жанр, — связь не порвется до тех пор, пока читатель / публика чувствует, что диалоги соответствуют героям, которые в них участвуют. Как только техника становится видна, диалог начинает фальшивить, читатель/публика теряет доверие, связь рвется, а вся сцена рушится. Если доверие не оправдывается слишком часто, читатель / публика разрывает договор и отправляет вашу работу прямиком в мусорную корзину.
Из всех аспектов словесного портрета — одежды, жестов, возраста, сексуальности, настроения, выражения лица — речь, пожалуй, куда быстрее других может вызвать недоверие. От странных выражений, необычного подбора слов, даже неуместной паузы может пахнуть плохой игрой: неискренними эмоциями, поверхностным умом, пустым местом вместо души. Вот почему каждая реплика диалога налагает на писателя обязанность крепить связь доверительности.
Как автор вы обязаны развить в себе достаточно вкуса, чтобы почувствовать, когда выразительность переходит в эксгибиционизм. Чтобы добиться этого, сначала установите пределы образности и богатства языка, которым вы пользуетесь. То, что можно трогательно и убедительно изложить на странице, может совершенно нетактично прозвучать со сцены. Так как метка, отличающая истину от фальши, устанавливается в той же мере традицией, в какой и самим автором, прежде всего определите жанр (или жанры) своей истории, а потом изучите все конвенции. И, наконец, со всей возможной пристрастностью задайте себе вопрос: «Если бы моим героем был я сам, что бы я сказал?» Единственными ограничителями яркости диалогов являются присущий вам вкус и здравый смысл. Слушайте свой внутренний камертон. Сомневаетесь — понизьте тон.
Сухой язык
Противоположен вычурному сухой, как пустыня, напичканный латинизмами и многосложными словами язык, из которого составляются длинные предложения, объединяемые в длинные речи. Я дам советы, как отказаться от сухой речи в пользу естественного, непринужденного, кажущегося спонтанным диалога. Только не забывайте, что все эти пункты (как и все остальное в книге) — рекомендация, а не приказ. Каждому писателю следует отыскать свой путь.
Конкретное лучше абстрактного
Если герой — человек XXI века, назовет ли он свой дом «местом жительства», а машину — «транспортным средством»? Очень сомнительно! С другой стороны, найдутся и те, кто скажет именно так. Поэтому, если ваш герой склонен к формализму в речи, тогда, конечно, снабдите его абстрактным словарем. Если же в этом нет необходимости, пусть он говорит так, как в жизни, давая точные названия предметам и действиям.
Лучше привычное, чем экзотическое
Назовет ли ваш герой свой дом «палаццо», а квартиру — «апартаментами»? Вряд ли. Однако он может оказаться романтиком… или действительно французом или итальянцем.
Короткое лучше длинного
Выдадите ли вы реплику вроде «Его измышления не что иное, как фальсификация фактов»? Вряд ли. «Он искажает истину», простое «Он врет» или грубое «Он заливает» прозвучит куда как правдивее.
К вашим услугам всегда по крайней мере два слова. Английский язык появился на слиянии двух языков — англосаксонского, который возник из древненемецкого, и старофранцузского, возникшего из латыни. По-этому словарь языка, который стал современным английским, тут же увеличился в два раза. В английском языке не меньше двух слов, обозначающих любой объект или явление. Не будет преувеличением сказать, что его словарь почти из миллиона слов — это практически неисчерпаемый источник.
Помня о гигантском по объему запасе слов в английском языке, я предлагаю взять на вооружение вот такой руководящий принцип: бегайте, как от огня, от многосложных слов с латинскими суффиксами вроде -ation, -uality, -icity. Обратите внимание на короткие, живые одно-двухсложные слова, большинство из которых ведут свой род из древнего англосаксонского — прародителя английского. Но, предпочитаете ли вы черпать из германской или французской традиции, всегда держите в уме четыре основных соображения при выборе того или иного слова:
1) чем более эмоционально выражается человек, тем более кратки его слова и предложения; чем более человек рассудителен, тем длиннее его слова и предложения;
2) чем более человек активен и прям, тем более коротки его слова и предложения; чем более человек задумчив и пассивен, тем длиннее его слова и предложения;
3) чем более человек разумен, тем более длинны его предложения; человек менее разумный говорит более короткими предложениями;
4) чем более человек начитан, тем больше его словарь и длиннее предложения; чем меньше он читает, тем меньше у него словарный запас и тем короче сами слова.
Вернемся к приведенному примеру и сопоставим реплики «Его измышления фальсифицируют факты» и «Врет, сукин сын». Первая — много сложная, с аллитерацией, с аллюзией на латынь — может принадлежать высокоумному барристеру в парике, герою комедии о судебной тяжбе, где высмеивается формализм королевского высокого суда. А вот три коротких слова второй реплики в сердцах может выпалить кто угодно.
Когда конфликт набирает силу, а риск возрастает, люди становятся эмоциональнее, активнее, искреннее, выражаются прямее и короче. На пике порой говорятся такие глупости, о которых остается потом только сожалеть. Во всех приемах и во всех структурных формах истории, сцены конфликта не только ведут рассказ, но по мере усиления борьбы создают форму диалога по тем четырем правилам, которые я только что описал.
С другой стороны, если прозаический рассказ написан в прошедшем времени, абзацы без конфликта или со слабым конфликтом становятся совсем заурядными. Вот почему позвольте еще раз напомнить, что указания в этой книге описывают лишь самые общие тенденции. Где-то когда-то кто-то обязательно поведет себя так, что все надежно сформулированные доктрины встанут с ног на голову. То же самое верно и для литературы. Каждый принцип имеет другой, противоположный ему принцип.
Пример: Бойд Краудер, что называется, «заклятый друг» главного героя в сериале «Правосудие». У продюсера Грэма Йоста все герои произносят свои диалоги с повышенным тембром. Но для Бойда он как будто нырнул вглубь веков, в Аппалачи, где происходит действие, и нашел стиль речи, подходящий для политика-конфедерата. Вот Бойд собирается ложиться в постель:
БОЙД. Как бы там ни было, а я чувствую в себе все возрастающее, все более сильное оцепенение, которое требует временного отдохновения в уединенной обители удобства и сна.
За много веков до окончательного слияния французского, возникшего из латыни, и древненемецкого, основы современного английского, латинский и французский языки в Англии были языками власти. Как и многие публичные люди, будь то политики или руководители корпораций, Бойд Краудер стремится к власти и престижу, и поэтому вся его жизнь — это непрерывная цепь действий. Подобно всем, жаждущим власти, Бойд рисуется своими многосложными словами, и плевать он хотел на все приведенные выше правила.
Лучше скупо, чем цветисто
Как вы напишете: «Ударив того парня, я вдруг ощутил, что мне гораздо больнее, чем ему, ведь, когда я вынул руку из кармана и изо всех сил сжал ее в кулак, предварительно проверив, что большой палец не внутри кулака, а снаружи, размахнулся и ткнул ему в лицо, что было сил, я ощутил такую острую боль, что не мог разогнуть руку»? Или «Руку сломал об его челюсть. Больно адски»?
Выбранные слова подчеркивают отличительные качества героя, которые проявляются в конфликтах. Поэтому, например, если ваш герой — ученый, теолог, дипломат, профессор, интеллектуал любых взглядов или просто любит порисоваться, то он (или она), скорее всего, в привычной для себя ситуации будет изъясняться сложными периодами. Но в общем и целом темп сцен задается простым языком и ясными, понятными словами.
Этот принцип справедлив для книги и сцены, особенно же — для экрана. В театре публика слушает очень внимательно. Читатель может вернуться к предложению, если с первой попытки не понял его. В кинематографе главный орган восприятия — глаза, а не уши. Если зритель фильма чего-то не понял, он задает соседу вопрос: «Что он сказал?»
Но вне зависимости от средства неверно понятый диалог расстраивает зрителя. Важно ли, насколько ярок ваш язык, если смысл сказанного ускользает от читателя / публики? Поэтому, отбросив в сторону красноречие, стройте реплики простыми ясными предложениями. Ясность превыше всего.
Лучше активно, чем пассивно
Пассивный диалог пестрит разнообразными глаголами-связками: «быть», «казаться», «считаться» («Он не считался умным»); активный диалог использует глаголы действия для выражения динамических перемен («Он сам все поймет»).
Когда люди вступают в контакт, разум подзаряжается энергией, взгляд на самого себя и на мир вокруг становится четче, и, следовательно, язык «заряжается» глаголами действия. Когда все спокойно, люди ведут себя пассивнее, смотрят на жизнь как созерцатели, а язык стремится использовать глаголы состояния. Но это только тенденция, а не общее правило человеческого поведения. Тем не менее в пылу конфликта глаголы состояния замедляют действие, подобно якорю, который сбрасывают с корабля в море.
В английском языке труднее всего заметить пассивность в так называемых герундиальных фразах. В них глагол состояния получает окончание -ing: She is playing around, They are working hard, They were coming home yesterday. Герундий лишь немного оживляет диалог. Перед тем как написать герундиальную фразу, попробуйте активный вариант — She plays around, They work hard, They came home yesterday — и проверьте, не лучше ли соответствует моменту единственный активный глагол.
Лучше коротко, чем длинно
Когда много воображающие о себе люди хотят произвести впечатление, они добавляют слоги к словам, слова к предложениям, предложения к абзацам, абзацы к высказыванию. Они подменяют качество количеством, краткость — обилием, простоту — вычурностью. Не желая того, они добиваются комического эффекта.
Приведу пример: три отрывка из цветистой речи Хелен Синклер (в исполнении Дайан Вист), стареющей бродвейской гранд-дамы, героини истории Вуди Аллена и Дугласа Макгрета «Пули над Бродвеем».
Вот она с опозданием является на репетицию:
ХЕЛЕН. Прошу простить меня — у моей педикюрши случился удар. Она упала и сломала мне ноготь! Его нужно было срочно восстановить.
ХЕЛЕН. Этот старый театр… этот храм… который переполнен воспоминаниями. Миссис Алвин… Дядя Ваня… Здесь Корделия… Там Офелия… Клитемнестра. Каждое представление — это рождение… и смерть!
Героиня гуляет по Центральному парку с молодым драматургом:
ХЕЛЕН. Все, у чего есть смысл, обретает невероятную форму. Это больше, чем слова. (Он хочет говорить, но она прикрывает ему рот рукой). Тише… тише! Давай просто посидим и не будем разговаривать. Будем сидеть тихо… Пусть птицы поют песни, а наши останутся неспетыми.
Так что, если, в отличие от Вуди Аллена, вы не намерены создать нечто сатирическое, старайтесь выразить максимум в самых немногих, но самых точных словах.
Лучше выражать, чем подражать
Диалог — это всего лишь слова персонажа, но его смысл должен быть глубже, чем просто словесная характеристика героя. Хорошие авторы вслушиваются в мир, но редко переносят на свои страницы именно то, что слышат, буквально слово в слово. Если вы изучаете документалистику или смотрите так называемые реалити-шоу и наблюдаете импровизацию необученных актеров, довольно быстро понимаете, что самый обычный разговор на камеру звучит ужасно, по-любительски. Художественный вымысел выводит разговор на куда более высокий уровень — он должен быть экономным, выразительным, многослойным, уникальным для конкретного героя. Это не просто болтовня. Если язык — мрамор, то автор, как Микеланджело, отсекает от него все лишнее. Не копируйте жизнь, а выражайте ее.
Меньше шума
Под шумом я подразумеваю обмен репликами вроде: «Привет, как жизнь?» — «Да нормально». — «Как детишки?» — «В порядке, спасибо» — «А хорошая сегодня погода» — «Да, наконец-то. На той неделе дожди совсем замучили». Точно так же, как пустые полки люди уставляют всяческими безделушками, неумелые писатели увивают скучные сцены словесными «финтифлюшками», рассчитывая, что они добавят сцене реализма. Но заставлять героев болтать без умолку в надежде, что так они получатся более реальными — это все равно, что нацепить на них потные майки и думать, что это сделает их спортивнее. Еще хуже, что этот звуковой шум не только опустошает героев и сцены, а запутывает читателя / публику
Диалог больше разговора в том же смысле, как танец больше движения, музыка — звука, а живопись — силуэта. Произведение искусства значит больше, чем простая сумма всех его составляющих, а вместе все его части больше, чем каждая часть сама по себе.
Плохо написанный диалог склонен к буквализму: в нем сказано то, что сказано. Диалог же, хорошо написанный, содержит гораздо больше, чем составляющие его слова и фразы — за каждым текстом в нем встает подтекст. Читатели и публика, знакомые с условностями реализма, исходят из того, что смысл строки больше, чем смысл составляющих ее слов, иначе ее незачем было писать. Поэтому любители кино и театра ищут, что скрывается за шумом, коннотацию за каждым обозначением и, если не находят, теряют интерес.
Если диалог не содержит невысказанных мыслей и чувств, или обогащайте его, или удаляйте.