Интерес к литературе стабильно падает, а её устройство пропорционально усложняется. Меняется и представление о том, что такое «актуальность» в поэзии. Раньше это понятие включало в себе лишь формальные и идеологические аспекты: пишет человек в рифму или без, он скорее прогрессист или консерватор. Сейчас же ясно, что столь же важна социокультурная ситуация, которая позволяет читателю прочитать текст тем или иным образом. Об этом поэт и критик Денис Ларионов рассказал журналисту Владимиру Коркунову. Они поговорили о творческой биографии поэта, о том, что изменилось в поэзии за десять лет, зачем авторы прибегают к усложненному языку, как потеря аудитории меняет литературу, о взаимодействии с мейнстримом, а также о гендерной проблематике в поэзии.
Публикуем полную версию беседы, которая войдёт в книгу «Побуждение к речи: 15 интервью с современными поэт[к]ами о жизни и литературе» (проект «Голос в тексте», издательство журнала «Цирк «Олимп”+TV»). Её герои — русскоязычные авторы в диапазоне от Дмитрия Кузьмина и Александра Скидана до Ирины Котовой и Еганы Джаббаровой. Издание можно поддержать, предзаказав книгу.
— В вашем небольшом тексте об Энди Уорхоле он предстает «легкомысленным» художником, постоянно путающим карты, «отвечая на идеологический запрос („а чем вы занимаетесь?“) сакраментальным „не знаю“». А вы, Денис, чем занимаетесь?
На самом деле, Уорхолу не была присуща «легкомысленность», его фирменное «не знаю» совсем про другое. Как-то неловко писать себя через запятую с Уорхолом, но мне легкомысленность также не присуща (увы!), к тому же мои тексты существуют вне зависимости от моего, так сказать, имиджа: по ним вряд ли что-то можно сказать обо мне или моей жизни. В случае сегодняшней лихорадки идентичностей это скорее подозрительно, но мне до некоторого момента позволяло приближаться к описанию мира, каждая точка которого лишена центра.
— Поколение «Вавилона» на рубеже 1980–90 х гг. столкнулось с одновременностью всего: в какие-то несколько месяцев на людей обрушился вал запрещенных/полузапрещенных ранее текстов. Это были разновеликие, отчасти несовместные имена (Георгий Иванов и Всеволод Некрасов; Константин Вагинов и Аркадий Драгомощенко и т. д.). Ваше (наше) поколение пришло позже, когда советские неофициальные поэты уже считались классиками. А потому вопрос — как вы формировались (как поэт), на чьих именах?
Примерно названные вами авторы и повлияли; знакомство с их текстами в определенный момент стало решающим. Еще бы я добавил Владислава Ходасевича, Андрея Николева, Николая Кононова, Александру Петрову, Анну Глазову, Яна Сатуновского, Евгения Харитонова, Александра Скидана… вообще, перечислять можно до бесконечности, надо остановиться: я любил и люблю поэзию, так сказать, бескорыстно и надеюсь, что переживу еще не одно удивление от чужого текста. Но с определенного момента меня также интересует то, как на производство текстов способна повлиять «не-литература», то есть влияние среды (как в социальном, так и в биологическом смысле), воплощенной как в материальном окружении, так и в эмоциональных паттернах. Все это очевидным образом делает поэтическую речь возможной или ограничивает ее. Кстати, внимание к этим феноменам могло бы позволить перезапустить, реконцептуализировать разговор о поколениях, которые, на мой взгляд, сейчас носят несколько инерционный характер.
— В каком, например, ракурсе?
Лично мне иногда кажется, что от поколенческой риторики вообще лучше отказаться. Возможно, следует концептуализировать иные формы общности людей, которые бы не были столь сильно детерминированы биологически, но и не выравнивались по единому социальному и культурному опыту. Я понимаю, что требую невозможного, но…
Мне интересно поколение до того момента, когда оно стало (провозгласило себя) поколением. Или фрустрированное поколение, описанное в книге Ирины Каспэ «Искусство отсутствовать».
В противном случае мы имеем дело с какими-то попытками иерархии, без которой — я отдаю себе отчет — невозможно, но в воздвижении которой мне не хочется принимать участие.
— В детстве у вас были литературные увлечения?
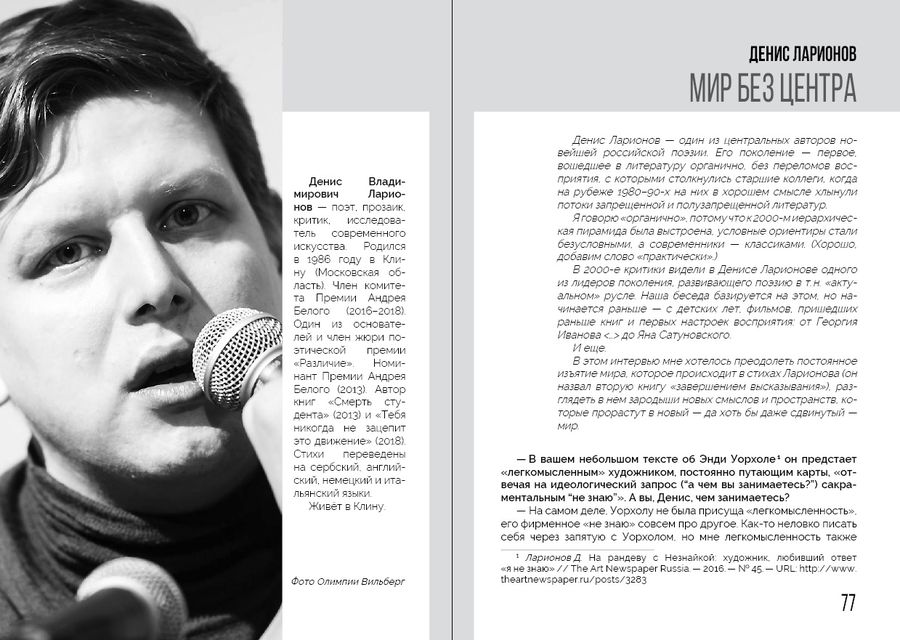
Мои детские и подростковые годы прошли в среде, далекой от интеллектуальных занятий, и поэтому, несмотря на то, что я научился читать очень рано, я не был книжным ребенком и подростком. Скорее видеоориентированным (кино люблю до сих пор). Поэтому особых литературных увлечений у меня не было, хотя семья и школа периодически пыталась их навязать, но из этого ничего не получилось. Наверное, интуитивно я чувствовал выхолощенность социальных практик по освоению литературного канона (сегодня я говорю умными словами, а тогда просто делал все, чтобы не читать разнообразного подросткового трэша — я и сегодня думаю, что т. н. «детская литература» — это глобальное надувательство).
— Тогда кто (или что) повлиял на то, что будете писать? Когда вы это поняли?
Довольно трудно сказать, КТО непосредственно повлиял на мое письмо — наверное, таковых людей не было и быть не могло: я за километр обходил разного рода литературные объединения моего города, да и я им вряд ли был бы нужен со своей писаниной. С одной стороны, мне повезло, что я никогда не был адептом ЛИТО во главе с каким-нибудь тоталитарным лидером: как показывает практика, у меня с такими людьми сразу же не получается общение (даже если я их уважаю). С другой, на ранней стадии у меня не было, скажем так, диалогической борьбы за метод, которая наверстывается сегодня, когда особой надобности в ней нет. Быть может, проще назвать, ЧТО влияло — отношения, в которые я стремился встроиться (или, наоборот, выпрыгнуть) и которые были связаны с различными аффектами. Любовь, скука, интерес, страх…
В небольшом интервью «Афише Daily» я говорю, что написал свой первый поэтический текст в 11 классе. Это правда. Именно тогда я почувствовал, что за моими словесными построениями (жутко наивными!) стоит что-то важное, по крайней мере, для меня. Конечно, потом мое понимание литературы и, в частности, поэзии многажды уточнялось и усложнялось. Но вот тот импульс был решающим.
— Чья практика из ныне пишущих (или недавно ушедших) поэтов, на ваш взгляд, наиболее ценна сейчас?
Знаете, если бы вы обратились ко мне лет пять назад, я бы с легкостью ответил на этот вопрос, приведя множество имен (которые для меня не потеряли важность и сейчас). Но если оглядеться, нужно признать, что фиксация на авторстве (как функции, о которой писал Фуко) отступает на второй или третий план. Важнее становятся концептуальные маркеры или, чаще, тенденции. С одной стороны, (почти) все хотят быть заметными и услышанными (что совершенно нормально), а через тенденциозность этого достигнуть легче, с другой —
социальное устройство литературы изменяется/усложняется прямо пропорционально падению интереса к ней, и только «имени автора» оказывается недостаточно для легитимности.
Конечно, эти процессы начались не сегодня, но именно сегодня мы ощущаем их особенно остро.
— Тенденциозность — это, если упростить, следование трендам? Тренды действительно работают лучше имени (даже не на имя), вопрос в том, когда и при каких условиях происходит становление автора, его имени? Вот возник концепт — разговоры с ботами, мало того, что функция автора ещё больше размывается, так ведь и на этом кто-то пытается легитимизироваться…
Но я вовсе не против этого! Не думаю, что авторство в данном случае размывается, конкретные тексты тут вообще ни при чем, ведь автор как «институт» остаётся на месте. А чтобы его сковырнуть,
возможно, потребуется отказаться от привычных средств литературы (языка, жестов и т. д.) в пользу каких-то других, возможно даже анонимных, практик. Делать стихи при помощи ножниц и тени, как великая Ры Никонова.
Наша же поэзия слишком фрустрирована и довольно наивна в плане формализации, принимая фантазии авторов за концептуальные соображения.
— А где находится «актуальность» у поэзии? То есть, наверное, ни у кого нет на нее монополии, и это не только «умный верлибр». Что может быть актуального в сегодняшней силлабо-тонике, скажем, опубликованной в традиционном «толстяке»?
«Сработать» может любой текст, но у силлабо-тоники шансов больше, в силу большей аттрактивности: вспомним хотя бы десятилетней давности спор вокруг «В Ленинграде, на рассвете…» Виталия Пуханова, в котором нет ни одного элемента, который бы затруднял понимание этого текста.
Но мне кажется, что измерять актуальность поэтического текста через его формальные особенности довольно архаично. Как и через его идеологическое послание (хотя этот пункт сегодня нуждается в дополнительном объяснении).
Скорее, «актуальность» — если под ней, согласно словарю, понимают отчаянную современность конкретного текста или поэтики — совокупность двух этих факторов плюс «кое-что еще»: социальные и культурные обстоятельства, которые способны задать ту или иную траекторию прочтения.
— Профессиональная литература должна быть маргинализирована? Все же, чем больше говорят о том или ином тексте/авторе, чем медийнее сфера, — тем большую аудиторию можно заинтересовать…
ОК, заинтересовать, но зачем? Это не риторический вопрос, и начинать, как в психотерапии, надо с него. В прошлом ответить на этот вопрос было легче, так как поэзия была частью канона, поставщиком «прекрасного», социальным медиатором, да мало ли еще чем. Но сегодня поэзия по большей части не стремится отвечать этим требованиям (за исключением, быть может, социальной функции). Поэтому ответ неочевиден — или, быть может, надо переформулировать вопрос, отказавшись от представления о магистральности и маргинальности, каноне и т. д. Самое интересное в современной поэзии происходит за пределами этих понятий.
Что поэзия может дать обществу? И что общество должно сделать взамен, чтобы потребление поэзии не вылилось в обслуживание интересов экзотических маркетинговых групп? Эти вопросы по-прежнему актуальны, и хотелось бы попробовать ответить на них без столь любимого нами wishful thinking.
— Так давайте попробуем дать ответ. Потому что эти вопросы не просто актуальны — важны. Ведь ответы на них, если и дают, часто словами из советского прошлого, имея в виду какую-то конкретную, осязаемую пользу.
Думаю, стоит бояться ответов не из советского «прошлого», а из корпоративного «настоящего» с его интегративной логикой пользы и изощренными механизмами вовлечения и сепарации, на которые уходят все наши риторические и эмоциональные ресурсы.
Несколько лет назад я участвовал в одном продуктивном для меня круглом столе, где сформулировал некоторое положение на эту тему, с которым в общих чертах согласен и сейчас: «Очевидно, что сегодня вербальный текст <…> запаздывает по отношению к <…> реальности. Эту ситуацию так или иначе пытается исправить поэзия прямого действия, но гораздо продуктивнее воспринимать это запаздывание как преимущество, которое имеется у поэзии как антропологической практики. Быть может, даже уместнее говорить о замедлении, так как речь идет не о пресловутом возвращении к истокам, но о ретардирующем эффекте чтения/восприятия, который позволяет рассмотреть те или иные проблемы и отношения словно в замедленной съемке и, так сказать, с холодным носом». При этом, я вовсе не призываю поселиться в башне из слоновой кости и закрыть за собой дверь изнутри; мне близок подход известной исследовательницы и кураторки Клэр Бишоп, которая, рассуждая о социальном повороте в современной искусстве, предостерегает от суррогатов в пользу произведений, проблематизирующих траекторию зрительского (в данном случае читательского) взгляда.
— А вот, например, паблик «Современная поэзия в мемах» — это еще одно свидетельство кризиса — или преодоление, выход в более широкое пространство (популярное у молодежи), а может, «десакрализация» авторитетов — своеобразная форма реваншима от тех, кого литсообщество отвергло?
Это надо спросить у автора/ов этого паблика. Но, в целом, это не так уж и важно. Паблик местами довольно смешной, но на сегодняшний день там наблюдается какой-то кризис и исчерпанность тем: вполне предсказуемые, ведь он изначально использовал готовый материал (институциональную критику в фейсбуке и около), на сегодняшний день по всем инфоповодам уже пошутили, а чтобы, скажем так, проблематизировать более глубокие основания современной литературы, нужно резко стать Стивеном Фраем, Геннадием Хазановым, а еще лучше комик-группой «Монти Пайтон».
— Получается, литсообщество находится в кризисе. Есть ли из него выход или кризис будет усугубляться (и дойти до того, что мы стоим в каком-то тупике лицом к стене)?
Похоже, что социальная конвенция, поддерживающая существование литературного сообщества, действительно дезавуирована.
Сегодняшняя ситуация похожа на «безвременье», когда ничего по большому счету не имеет значения и ничего не принципиально: то, что можно назвать «поэтическим письмом», утратило историческую логику, — пишите, что хотите.
Но причина, конечно, не только в этом: нельзя не упомянуть о внешнем давлении (политическом, экономическом) и о неразрешимых внутренних противоречиях внутри литературного сообщества (как озвученных, так и подразумеваемых, остающихся невысказанными). Я понимаю, что это неизбежно, но мне немного жаль того времени, когда мы существовали под сенью этой иллюзии; возможно, оно было лучшим временем в моей жизни.
— В интересном и важном опросе-интервью о гендерной идентичности, который вы провели, был затронут вопрос о стирании границ между мужским и женским. Мне интересно: как изменит (и меняет) искусство нынешнее пристальное внимание к теме гендера и равенства вообще?
Пристальное внимание к теме гендера наблюдается в искусстве и литературе по меньшей мере сто лет. В западном контексте оно не прерывалось никогда, в русско-советском локусе ситуация сложнее и требует отдельного обсуждения. В позднесоветской и постсоветской литературе работали Евгений Харитонов, Марина Темкина, Анна Альчук, Ярослав Могутин, Николай Кононов… Для всех этих авторов была (и есть) очевидна конструктивистская природа гендерной идентичности, пол и сексуальность переживаются как экзистенциальное приключение без заведомо известного финала.
Сегодняшнее «пристальное внимание» в меньшей степени связано с «экзистенциальщиной» (возможно, полагая, что вопрос уже решен вышеназванными авторами), но в большей степени социально мотивировано. Это совпадает с мировым движением, которое стремится радикально пересмотреть картину, при которой гендерное насилие, гомофобия и др. подобные вещи казались нормальными. Но это тема для отдельного разговора.
— Современная молодая поэзия (не вся, но подобных стихов много) — сложна, отчасти засушена и, кажется, нарочито интеллектуальна. Кто ее заархивировал и что делать с ее переизбытком?
Действительно, иногда возникает ощущение, что «сложность» перестает быть свойством текста, но становится маркером принадлежности к некоей условной социальной общности, разделяющей определенную моду. Но что такое «нарочитая интеллектуальность»? Она либо есть, либо нет. Нередко усложненным языком выговариваются до смешного тривиальные смыслы, а бывает, что текст представляет собой всего лишь малограмотный набор слов (есть и такое, к сожалению).
Впрочем, за подобными конфузами скрывается гораздо более масштабная и серьезная проблема, а именно, коренная перемена оснований поэзии как таковой, ее синтаксического строя, семантических свойств, лирического субъекта и т. д.
Возможно, именно этим вызван алармизм вашего вопроса.
Обращение же целого ряда авторов преимущественно 1980-х гг. рождения к «сложным» типам письма навскидку может быть объяснено причинами общегуманитарного (глубокое погружение в контекст континентальной и/или аналитической философии), социального (стремления изъять себя из символического обмена, свойственного российскому обществу) или культурного (стремление обновить поэтический канон или вообще «переизобрести» поэзию) характера. Но с каждым автором, так сказать, надо разбираться индивидуально.
— В вашей книге «Тебя никогда не зацепит это движение» опубликованы несколько текстов из предыдущего (и первого) сборника «Смерть студента». Уместно ли трактовать этот ход как продолжение изначального высказывания; вкрапление в него еще нескольких десятков страниц (а не что-то полностью обособленное) — и вообще, что для вас значит поэтическая книга?
Да, разумеется это продолжение и, надеюсь, завершение высказывания (конкретно этого высказывания, корпуса текстов). Но есть и более прозаическая причина — написанных за пять лет поэтических текстов не хватило бы на отдельную книгу, увы. Первые две книги были спонтанными собраниями «прямо сейчас» законченных текстов, за их пределами ничего не осталось. Сегодня я думаю о несколько ином способе организации материала (пусть и в рамках книги).
— На какие вопросы вы пытаетесь ответить своими стихами — и почему именно такая форма?
Думаю, лично у меня нет какого-то специального видения мира, для которого необходимо обращаться к столь трудоемкому предприятию, как написание стихов. Нравится нам это или нет, но бульшую часть времени жизни мы проводим в повседневной стихии банального (говорю безоценочно), в которой есть своя скука и своя прелесть. А поэтические тексты — это нечто вроде поля исследования, но не лабораторного, а включенного. Чему же посвящено это исследование? Попытке найти ответ на вопрос, может ли существовать мир без центра (то есть насколько хватит кислорода в децентрированном мире). Но центральной для меня темой я считаю исследование отношений — между людьми, объектами, языком/ами. Конечно, это не то исследование, что проводилось бы в академическом учреждении — хотя бы из-за пессимистической предустановки автора.
— Каждый автор пишет в своем ритме — кто-то выдает тексты в промышленных масштабах, как Вадим Банников, у кого-то новые тексты редки — как у вас. Чем это обусловлено?
Думаю, скорость письма и объем написанного зависит от многих причин: от способствующих/ограничивающих письмо условий до эмоционального настроя. Я — человек не очень усидчивый, но, работая над текстом, всегда понимаю, что лучше не спешить или, быть может, вовсе ничего не писать (вот как сейчас).
— Иван Соколов в отзыве на ваш сборник написал о наложении опыт/-ов, когда происходит «тотальная пронзенность всего всему», то есть объект и субъект поэтического говорения не просто совпадают — совмещены почти молекулярно, и читатель чуть ли не телесно ощущает текст. Это осознанный прием и как вы его достигаете?
Мне нравится дефиниция Ивана, она довольно точная — но она предполагает не просто наложение, а столкновение, в результате которого субъект и среда становятся практически неотделимы друг от друга. Где заканчивается «я» и начинается другой/другое, как «я» и среда влияют друга на друга, разрушают друг друга… эти темы меня всегда волновали; можно сказать, что их присутствие — элементарное условие для того, чтобы написать текст.
— Давайте немного о «я» — своём и чужом. Помните эссе Милана Кундеры о художнике Фрэнсисе Бэконе? Там есть удивительная мысль о границах я: «До какой степени искажённая личность продолжает оставаться собой? До какой степени должно дойти искажение, чтобы любимое существо продолжало оставаться любимым существом? До какого момента дорогое лицо, которое погружается в болезнь, в безумие, в ненависть, в смерть, еще можно узнать? Где проходит граница, за которой „я“ перестает быть „я“»? Не прошу об универсальной формуле. Как этот вопрос решается для вас?
В этой цитате важно то, что они сказаны человеком, стремившимся реабилитировать «нормальные» человеческие ценности, о человеке глубоко встревоженном, увидевшем мир в не самый спокойный период истории, принадлежащем к стигматизируемой социальной группе (напомню, что уголовное преследование гомосексуалов в Великобритании было отменено лишь в 1967 году, когда Бэкону было за пятьдесят). Поэтому вопрос о границах «личности», «красоты» и, в конечном итоге, самих «границ» остается здесь открытым.
Мне довольно близко приходилось видеть, как изменяется «личность» под действием т. н. душевной болезни и направленных на ее лечение медикаментов, как эмоциональный вывих одного человека рушит жизни тех, кто находится рядом… В этом свете вопрос Кундеры повисает в воздухе, тут просто нечего ответить, кроме банальностей.
Что же касается художественных текстов, то здесь совсем другой порядок: начиная или продолжая писать, совсем не обязательно знать, где находится «личность», «я», «тема», «границы» и т. д. Речь, конечно, не о священном безумии, но о чистоте исследования, о котором я говорил выше. К тому же, письмо обладает таким мощным детерриториализующим (как сказал бы Делез) потенциалом, что неправильно от него отказываться.
— Ваша поэтика — поэтика изъятия, из нее постоянно что-то пропадает (изымается). Но из мира/пространства нельзя изымать бесконечно, его ресурсы иссякают, как, например, природные ресурсы. Не чувствуете ли вы в связи с этим исчерпанности себя-автора? И как писать, когда почва для опыта обмелела?
— Моя исчерпанность и так всегда со мной. Надо сказать, что подобная ситуация вполне нормальна: я никогда не пишу от ощущения переполненности, перенасыщенности мира, которую хочется выразить или поделиться. Конечно, это прежде всего не соответствует тем эмоциональным режимам, в которых я себя ощущаю — но и в более общем смысле, для литературы здесь нет особого вызова, так как с древних времен она (еще не будучи литературой в современном смысле слова) имеет дело с тотальностью мира. Мне же хотелось представить нечто иное, по сути противоположное: мир нехватки, фрагментарного опыта, по которому нельзя восстановить целое, но можно схватить его рефлексивно, или почувствовать, чтобы потом потерять.
— Что вызывает у вас импульс написать текст, как происходит эта работа?
Ничего оригинального. Импульс может быть вполне пролонгированным, в виде определенного «задания», или секундным, как своего рода «озарение» секулярного толка, которое надо хоть как-то зафиксировать. Дальше уже текст обретает целостность — или наоборот, постепенно очищается от всего лишнего, избыточного. Как правило, это долгий процесс, который позволяет подойти к черновику текста с разных сторон, посмотреть на него с большого расстояния, замедлить время чтения. Текст считается законченным, когда автор понимает, что сильно ошибся, исправить ничего нельзя, а затраченных усилий жалко.
— Какие главные события, книги и открытия для вас (со всей субъективностью) случились/вышли/произошли в 2010-е?
Я еще не старый человек и мне особенно не с чем сравнить: поэтому почти все значимое и незначимое, произошедшее в литературе (и жизни) в 2010-х гг., стало для меня открытием.
Если же все-таки попробовать сосредоточиться на чем-то одном, то я бы отметил, что менее чем за десять лет практически полностью изменилось не только устройство поэтической сцены, но и представление о социальной и экзистенциальной роли поэзии.
Его особенности еще не описаны, потому что изменения продолжаются, мы каждый день с этим сталкиваемся и, быть может, относимся к этому по-разному, но их историческую неотвратимость отрицать бесполезно.
— Вы вошли в редсовет/команду недавно созданного журнала «Парадигма». Насколько важно лично для вас участие в этом проекте? И насколько важно стягивание культурных пространств (особенно после событий 2014 года, когда многие украинские поэты, писавшие раньше на русском, перешли на украинский язык)?
Вообще-то, очень важно. И, конечно, поиск… или, быть может, скорее наблюдение и сопереживание друг другу и текстам друг друга необходим/о:
русскоязычной и украиноязычной поэзии есть что предложить друг другу, это очевидно. Но не думаю, что стоит стремиться «наводить мосты» — особенно после буквализации этой метафоры на территории аннексированного Крыма.
Вполне достаточно наблюдать и, по возможности, помогать друг другу, не нарушая дистанции.
— Говорят, каждый священник хотя бы раз в жизни стоял перед зеркалом и задавал себе вопрос «Не обманываю ли я себя и паству? А вдруг Бога нет?». У вас никогда не было таких сомнений, что в смысле литературы вы приставили лестницу не к той стене?
Как и положено человеку моих занятий, большую часть жизни я провожу в сомнениях: в себе, в своей жизни, в своей деятельности и т. д. Если я и сделал что-то дельное, то благодаря им — конечно же, в моменты, когда сомнения рассеялись или отступили перед срочностью работы. Наверное, необходимо соблюдать баланс между уверенностью и сомнением, не впадая ни в одну из крайностей. Это довольно непросто психологически, но это издержки работы литератора и исследователя. Лично мне это редко удается.
При этом у меня нет ощущения обмана себя или других. Есть досада, что предложенный мной способ словесного выражения для очень многих непонятен или даже неадекватен. Но, с другой стороны, эта дистанцированность — прагматический эквивалент интересующих меня-как-автора тем и мотивов. Нужно быть к нему готовым, продолжая делать то, что начал: в конце концов, моих текстов за меня никто не напишет. Да и способ этот сложился не сразу, довольно долго я стремился скалибровать оптимальный для меня способ словесного выражения. Так что лестницу переставлять уже поздно (да и не хочется).
Фрагменты беседы ранее публиковались в журналах «Контекст» и «Цирк „Олимп”+TV». Поддержать издание и предзаказать книгу можно до 16 июля.














