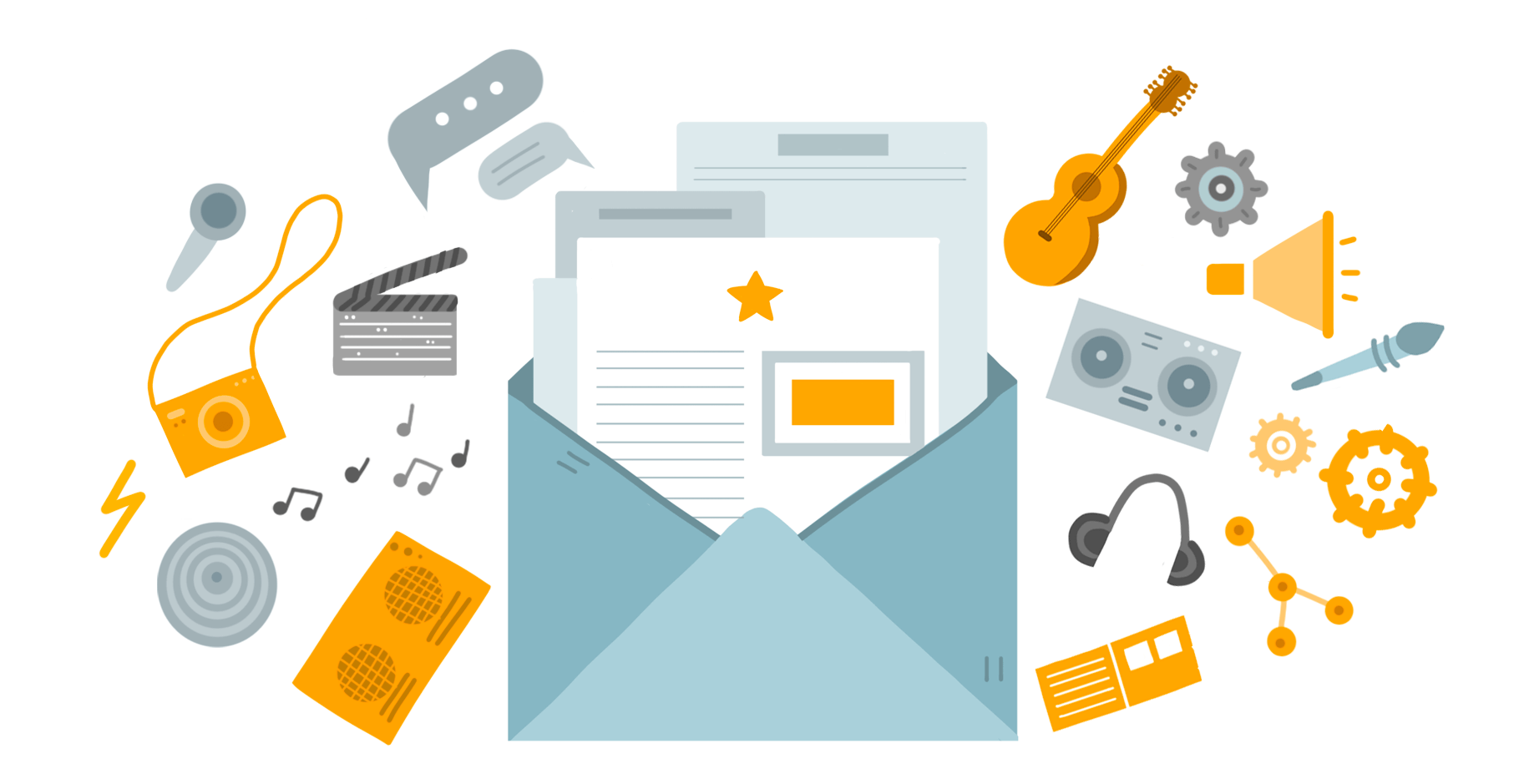Мураяма Кайта. «Язык дьявола»

Мураяма Кайта. Автопортрет
Мураяма Кайта (1896–1919) за свою недолгую жизнь успел прославиться и как художник, и как поэт, и как писатель. Он разделил судьбу Исикавы Токубоку, Куникиды Доппо, Масаока Сики и других гениев японского модерна, преждевременно скончавшихся от неизлечимой в те годы чахотки.
Мать Мураямы до своего замужества была служанкой в доме известного писателя той поры Мори Огая, который, по легенде, и придумал имя Кайта. В поэзии он испытал влияние поэта-символиста Китахара Хакусю, автора знаменитого сборника «Запретная вера». Лирику самого Кайта высоко оценила Ёсано Акико, величайшая поэтесса своего поколения; а прозу — Эдогава Рампо и Арисима Такэо.
К сожалению, большая часть работ Мураямы Кайта осталась незавершённой. Японист Анна Слащёва впервые перевела на русский язык его рассказ «Язык Дьявола» (1915). На родине эта новелла, которая ждала перевода на русский 104 года, входит в многочисленные антологии мистической прозы.
1
Как-то ясной майской ночью я любовался темно-синим небом, как вдруг за воротами послышался голос:
— Вам телеграмма.
Я взглянул на нее и удивился. Текст гласил: «Кудандзака 301. Канэко».
«Что это такое? Что за 301?» — удивился я. Канэко — мой друг, и даже самый чудной из друзей. «Он поэт, в поэтах есть загадка», — задумался я, вертя эту загадочную телеграмму в руках. Отправили ее в десять часов сорок пять минут из Оцука. Я не знал, как это все увязать. Поэтому я переоделся в уличное кимоно и направился в сторону Кудандзака.
Мой дом находится далеко от станции. По дороге я думал о Канэко. Позапрошлой осенью меня пригласили на пирушку, куда приходили только чудаки. Там я впервые свел знакомство с Канэко Эйкити. Среди молодых поэтов лет двадцати пяти он, несмотря на свои двадцать семь, казался чудовищно старым, а его красноватое лицо бороздили глубокие дегенеративные морщины; в глазах горел жуткий зеленый огонь, а нос был страшно толст. Но причина, благодаря которой мы познакомились, была в его губах. Даже среди безумных, как на подбор, гостей на этой сумасшедшей пирушке, которая простому человеку показалась бы чертовским шабашем, его губы привлекали внимание.
Он сидел прямо напротив, и я мог свободно его разглядывать. Губы у него были великолепные. Они колотились друг о друга, словно две ржавых медных пластинки. И постоянно дрожали. Когда он ел —вот это был спектакль. Эти пластинки оттенка горячей крови раскрывались с быстротой молнии, и всасывали в себя пищу. Я еще не видел человека с такими роскошными толстыми губами и восторженно смотрел, как он ест. Но тут мы случайно встретились взглядами. Он сразу же поднялся и громко начал: «Чего это ты уставился?» — «Извините пожалуйста». — Он успокоился и снова сел. — «Пялиться на людей нехорошо, понятно тебе?» — «Да, но меня заинтересовало ваше лицо». — «Нет, спасибо, мое лицо тебя интересовать не должно», — мрачно ответил он. — «Не сердитесь, давайте лучше выпьем за мир». — Так я и познакомился с Каноко Эйкити.
Чем дольше я его знал, тем страннее он мне казался. Какие-то средства у него были, а вот родителей там, братьев с сестрами — нет. Он вроде где-то учился, но ничего толком не окончил. Почему ему так не нравилось об этом говорить, я не понимал — короче говоря, поэт. Домой к себе он тоже никого не водил. Чем он там занимался — бог весть, обычно он просто ходил по улицам. Часто я видел его в барах и ресторанах. А потом на пару-тройку месяцев он куда-то пропадал. Черт разберет. Мы тесно общались, он даже мне доверял, но кроме этих странностей я ничего о нем не знал.
2
Размышляя о телеграмме, я взобрался на холм Кудандзака. Под моими ногами простирался ночной Токио. В темноте мерцали, будто алмазы в руде, огоньки квартала Дзимботё. Я прошелся вокруг холма. Думал, может, Каноко ждет где-то здесь. Никого не было. И за статуей Омура тоже ни души. Я прождал полчаса и уже засобирался к нему домой. Каноко жил рядом, на Томидзака, в маленьком, но красивом домике. Когда я пришел туда, то увидел полицейских. Я удивился и спросил, что случилось. Услышал в ответ, что Каноко покончил с собой. Внутри, в комнатке площадью в шесть татами, толпились его друзья в окружении полицейских. Каноко закололся металлическими щипцами для угля. На теле были следы от ударов. Лицо было бледно-розовым, как во сне. Врач думал, что он помешался, будучи пьяным. От трупа сильно несло алкоголем. Прохожие говорили, что слышали крики, которые потом перешли в какой-то вой.
Записки не было. Телеграмма так и оставалась загадкой. Судя по времени, он отправил ее, вернулся домой и сразу покончил с собой, думал я, возвращаясь к холму Кудан. Итак, что могут значить цифры 301? Вроде нигде на Кудандзака цифр нет. Я осмотрелся, но ничего не увидел. И тут мне пришла в голову мысль. На всем холме можно насчитать более трех сотен… поребриков, которые огораживают сточные канавы. Я начал считать их по правой стороне, спускаясь вниз. Но триста первый поребрик был ничем не примечателен. Может быть, надо считать их снизу. Всего поребриков триста десять. Поэтому десятый сверху — это триста первый снизу. Я подошел к нему и заметил небольшой черный предмет между десятым и одиннадцатым поребриками. Это оказался черный промасленный сверток. «Ну-ка, вот», — я забрал его и помчался домой.
Внутри оказалась тетрадь в черной обложке. Только начав ее читать, я понял, кто таков был Канэко Эйкити. И это оказался крайне страшный человек. «Да он не человек, он дьявол!» — воскликнул я. Читатель! И сейчас меня пробивает дрожь при мысли, что я предаю огласке эти заметки. Далее все содержимое тетради.
3
Друг мой, я решил умереть. У меня уже наточены щипцы для угля, чтобы заколоться в сердце. Когда ты будешь читать эту тетрадь, в живых меня уже не будет. А ты обнаружишь, что поэт, избранный тобою в друзья, на самом деле преступник, каких свет не видывал. И может, ты будешь клясть себя за то, что дружил со мной. Но перед тем, как ты возненавидишь то, что останется от меня, пожалей мой труп, ибо я заслуживаю жалости.
Я расскажу тебе всю историю своей жизни, ничего не скрывая. Итак, я не токиец. Я родился и рос среди гор провинции Хида. Из поколения в поколение семья моя торговала деревом и во времена отца была уже одной из немногих богатых и знатных в округе. Отец мой, человек до крайности простой и благородный, в те славные времена завел себе наложницу — гейшу из Нагоя, которая родила ему сына. Это был я. К моему рождению у законной жены отца, мачехи, уже был ребенок. И пусть это было не совсем благопристойно, но и мачеха, и моя матушка жили в одном доме. И дети их тоже воспитывались вместе. Когда мне исполнилось двенадцать, у мачехи было уже четверо. А в апреле родился еще один, мой младший брат. После его рождения в деревне стали говорить, что это ненормальное дитя, ибо на его ступнях было золотистое пятно в виде полумесяца.
Говорили, что как-то его увидела бродячая гадалка и сказала: «Он умрет страшной смертью». И это страшное предсказание сбылось. Я еще маленький думал, что пятно на его ноге — дурной знак. Время то я не забуду никогда. В октябре скоропостижно скончался отец. Он оставил завещание и умер. От нас с матушкой он отказался, выплатив, правда, десять тысяч йен. А дом переходил к старшему сыну мачехи, на три года меня старше. Отец был к нам так добр, а завещание, на которое мы с матушкой так надеялись, нас обмануло. На самом деле между ними с мачехой велась тайная война не на жизнь, а на смерть. И что мачеха, которая завладела домом, обрушит свой гнев на матушку, было ясно, как божий день. Поэтому мы, как только кончились похороны, переехали в Токио. И я стал жить совершенно независимо от семьи, которая осталась где-то там, в горах. Процентов от десяти тысяч йен хватало нам на жизнь. Матушка моя была мудрой и скромной, ни капельки расположения у нее к искусствам гейш не было.
Когда мне исполнилось восемнадцать, она умерла. С тех пор я остался один, и стал вести распутную жизнь поэта. Такова в общих чертах моя история. Но в ней таится мрачная сила, которая постоянно меня преследовала. С самого детства я был необыкновенным. Не было во мне беззаботности других детей. Я любил молчать в одиночку, но не играть с другими. Часто я ходил в горы и, стоя за скалами, смотрел на бегущие по небу облака. С годами привычка эта становилась все более нездоровой; за два года, как мы покинули Хида, случилось следующее. Полгода я мучился болями. У меня бесконечно, невыносимо зудело в позвоночнике. Ходить я тоже нормально не мог и всегда заваливался вперед. Лицо стало землистым, я тощал прямо на глазах. Матушка моя испереживалась, давала мне всякие лекарства, и я поправился. Но болезнь кое-что со мной сделала. Мне вдруг захотелось такого, что обычно не едят. Поначалу я попробовал штукатурку и втайне от всех колупал стены. На вкус она была хороша. Мне особенно нравилась белая, из амбара. Доколупался я до того, что как-то с ужасом заметил огромные дыры на стенах. А затем аппетит вдруг разыгрался, и я стал есть такое, что и представить нельзя. И проделывать это было удобно, ибо был я нелюдим. Скольких слизняков я проглотил. Обычной пищей моей были лягушки. В окрестностях Хида они водились в изобилии. Я ел вытащенных из грязи в саду червей и жуков. Весенние гусеницы ядовитых цветов — золотые, фиолетовые, зеленые — испускавшие, к тому же, страшную вонь, будили неутолимый голод. Домашние заметили, что у меня губы распухли от укусов насекомых. А так чего я только ни ел. И ни разу не отравлялся. Странные мои вкусы все сильнее довлели надо мной, но как только мы с матушкой переехали в столицу, тамошняя жизнь меня излечила, и постепенно они сошли на нет.
4
Однако, когда мне было восемнадцать, скончалась матушка, и ту зиму я провел в печали. От горя я непрестанно рыдал. И так слабый здоровьем, я испытал острейшую неврастению. Я стал походить на призрак. Боли в спине, которые мучали меня в отрочестве, вернулись. Вынести этого я не мог, и в двадцать лет бросил учиться и переехал в Камакура. Долгое время то я жил там, то навещал Ситиригахама и Эносима. Гулял, купался — так и проводил время. Там и состояние мое стало меняться. Оказался вдруг на морском берегу, вдали от городской сутолоки — и стал выздоравливать. Привел себя в порядок. Будто снова стал одиноким мальчиком, который радостно гулял в горах Хида. Но как-то раз сел я ужинать, и еда показалась мне чрезвычайно невкусной. Чтобы мне, после плавания, ужин в первоклассном рёкане показался невкусным — такого и быть не могло. Я взглянул в зеркало. Бледное лицо мое раскраснелось. Затуманившиеся глаза блестели. Может, я поправился и еда перестала казаться мне съедобной. Я высунул язык. И в этот момент зеркало упало у меня из рук. Язык мой стал длинным. Аж в три с половиной вершка. Мало того, что он вытянулся, так и форма у него стала тоже самая дикая. Разве у меня был такой язык? Да быть такого не могло. В зеркале я увидел, как меж губ моих торчит огромный шмат мяса, весь покрытый огромными лиловыми и алыми бородавками, да вдобавок с него стекает слюна. Я присмотрелся и к удивлению своему понял, что бородавки эти были иголками. Язык был шершавый, как у кошки. И на ощупь тоже. Да разве такое возможно? Но еще сильней я удивился, когда в зеркале увидел красное лицо дьявола. Жуткое лицо. Огромные глаза лихорадочно блестели. Я сразу же растерялся. И тут из зеркала раздался голос: «Твой язык — язык дьявола! Не найдешь подходящей еды — не наешься. Можешь хоть все съесть, главное ищи, чем дьявола кормят. А иначе будешь целую вечность голодать!». И тут я сразу все понял. — «Что ж, я уже отчаялся. Буду есть всякую дрянь. Может найду, что ему по вкусу», — и отбросил зеркало. — «Вот что с моим языком сталось за месяц. Потому и еда невкусная». Передо мной был новый, совершенно новый мир. Я выехал из рёкана. Из Камакура переехал в Идзу, и снял заброшенный дом в далекой деревне. И там началось. Обычная еда языку, покрытому бородавками, вкусной не казалась. Пришлось питаться на редкость оригинально. За два месяца, что я жил в этом доме, пробовал землю, бумагу, мышей, ящериц, жаб, пиявок, лягушек, змей, а потом медуз и рыбу фугу. Я ел насквозь прогнившие овощи. Гниль эта на запах, цвет и вкус была крайне аппетитной. И этим я мог насытиться. Но два месяца спустя лицо мое позеленело. Тело мое потихоньку становилось, как у бессмертного. И тут я понял, что хочу мяса. Но желание это бросило меня в дрожь, и лишь два слова огнем горели в душе моей. — «Хочу человечины». Было это прошлым январем.
5
Заснуть я после этого не мог. Только человечина и снилась. Губы дрожали, а толстый алый язык скользил, как змея. Сила этого желания меня напугала. Я пытался его подавить. Но дьявол подзуживал: «Что, хочешь попробовать самое вкусное блюдо? Будь храбрым, сожри человека, сожри человека». Лицо дьявола в зеркале расплылось в жуткой улыбке. Язык становился все длиннее, а иглы — все острее. Я закрыл глаза. — «Нет, я не буду никого есть. Я не абориген из Конго. Я добропорядочный японец». — Но дьявол во рту моем презрительно рассмеялся. Пришлось постоянно напиваться, только чтобы избавиться от этого страха. Пока я сидел в баре, желание это как-то отступало. Да только судьба ко мне милосердна не оказалась.
Ночь пятого февраля я никогда не забуду. Тогда я напился и пошел домой из Асакуса. Ночь была туманная, кругом не видно ни зги. Во мгле горели лишь отсветы фонарей, но я все равно заблудился. Вдали зашумел поезд, и я понял, что нахожусь у станции Ниппори. Я пересек переезд. Поднялся в гору. Зашел на кладбище Ниппори и свалился навзничь. Когда открыл глаза, была уже глубокая ночь. Я зажег спичку, на часах — за полночь. Шатаясь от выпитого, я бродил меж могил. Тут я поскользнулся и упал. Зажег вторую спичку и увидел, что лежу на свежем земляном холмике. И тут страшная мысль родилась в моем мозгу. Я взял палку и стал рыть этот холмик. Копал его, как безумный. Долбил, как сумасшедший. Скреб землю ногтями. Где-то через час я наткнулся на дерево. — «Это гроб». Я отбросил землю и сломал крышку гроба. Зажег еще одну спичку и посмотрел внутрь.
И тут меня потрясло жуткое, невыносимое чувство. Огонек осветил бледное лицо мертвой девушки. С закрытыми глазами и стиснутыми зубами. Лет девятнадцати, хорошенькой. Темные волосы блестели. Кровь бросилась мне в голову. Голова ее была отделена от тела. Руки и ноги тоже были брошены в гроб. Я затрясся. Наверняка она бросилась под поезд, и ее только тут временно похоронили, подумал я, и дрожь отступила. Достал ножик из кармана и вонзил его в грудь девушки. Любимый запах гнили ударил мне в нос. С трудом, но я отрезал ее грудь. Грязные капли стекали с моих рук. Я отрезал немного мяса от щек. Закончив дело, я испугался. «Что ж ты наделал?» — услышал я голос совести. Но я завернул отрезанные части тела в платок. Привел крышку гроба в должное состояние и вышел с кладбища. Нанял рикшу и поехал домой, в Томидзака.
Прокравшись домой, я запер двери и развернул платок. Прежде всего я поджарил щеки. От них аппетитно пахло. Я завопил от удовольствия. Неторопливо жарил мясо. И язык дьявола высовывался от удовольствия. Рот мой наполнился слюной, и я не мог больше терпеть и схватил кусок недожаренного мяса. Я погрузился в опьянение, как от опиума. Ах, чудо, что столь аппетитная еда вообще существует. И как я мог раньше такое не пробовать? Вот она, «дьявольская еда». Язык мой просил еще. Ему хотелось человечины. И наконец-то я это понял. Затем я впился зубами в грудь. Сквозь меня будто бы ток пустили. Наконец-то я был сыт! Наконец-то я получил удовольствие от еды!
6
Весь следующий день я копал тайник под полом. А затем я прикрыл его досками. Это была кладовка. Только я собирался хранить там драгоценную еду. Глаза мои горели. Я шел по городу, и у меня текли слюни. Я хотел съесть всех, всех, кто проходил мимо меня. Особенно привлекали меня мальчики и девочки лет четырнадцати. Мне невыносимо хотелось вцепиться в них. На этот случай у меня в кармане лежал носовой платок и бутылка с хлороформом. Я усыплял их, а затем отвозил домой.
Последнего я схватил двадцать пятого апреля, дней десять назад. Я ехал на поезде из Табата в Уэно. Рядом сидел очень красивый мальчик — у меня аж коленки задрожали. Простоватый на вид, но на редкость симпатичный. Рот мой наполнился слюной. Я аж сглотнуть не мог. По виду он путешествовал один. Поезд прибыл в Уэно. Он слегка постоял на станции и пошел в сторону парка. Сел на скамейке и смотрел одиноко на огни в пруду Синобадзу.
Я огляделся — кругом не было ни души. Достал бутылку с хлороформом и платок. Намочил его. Мальчик все так же смотрел на пруд. Я прижал платок к его носу. Все подействовало, как надо, и он обмяк. Держа его на руках, я спустился по лестнице и подозвал рикшу. Мы поехали в Томидзака. Я зашел домой и запер дверь. Под фонарем я увидел, какой это был красивый мальчик. Я вытащил острый нож и с силой вонзил ему в затылок. Сонный мальчик широко раскрыл глаза. Его зрачки заблестели, лицо побледнело. Я перетащил его в кладовку.
7
Я думал, по возможности, описать в деталях, что я с ним сделал. Обычно я действовал по одной программе. Я жарил поочередно мозг, щеки, язык и нос — и съел все дочиста. Запах их свел меня с ума. А мозг на вкус превысил все ожидания. Насытившись, я заснул, а в девять утра принялся за завтрак.
А потом была эта ужасная ночь. И той ночью я решил, что не хочу больше жить. Не было ночи страшнее. Как зверь, я спустился в кладовку, ибо настала очередь готовить руки и ноги. Я взял пилу, чтобы отрезать конечности, и встал рядом. Тут я схватил тело мальчика за левую ногу и перевернул его. Он лежал на животе. Когда взгляд мой упал на его левую ногу, я подпрыгнул, будто заклейменный. Смотри! На его левой ноге разве не пятно в форме полумесяца? Я ведь писал, что у меня был младший брат с таким пятном… И было это лет пятнадцать назад. Какой ужас! я съел собственного брата! Я развернул его сверток с тетрадями. Все они были подписаны: Каноко Горо. Так звали моего брата. Как я понял, он хотел в Токио и, скучая по мне, сбежал из Хида. А теперь он был мертв! Друг мой! Я больше не могу писать… Испытай ко мне жалость.
На этом тетрадка закончилась. Судя по почерку и содержанию, она без сомнений принадлежала Каноко. При осмотре его трупа выяснили, что язык у него был покрыт бородавками, похожими на иглы, как он и описывал, но лицо дьявола — это всего лишь фантазия поэта.
1915