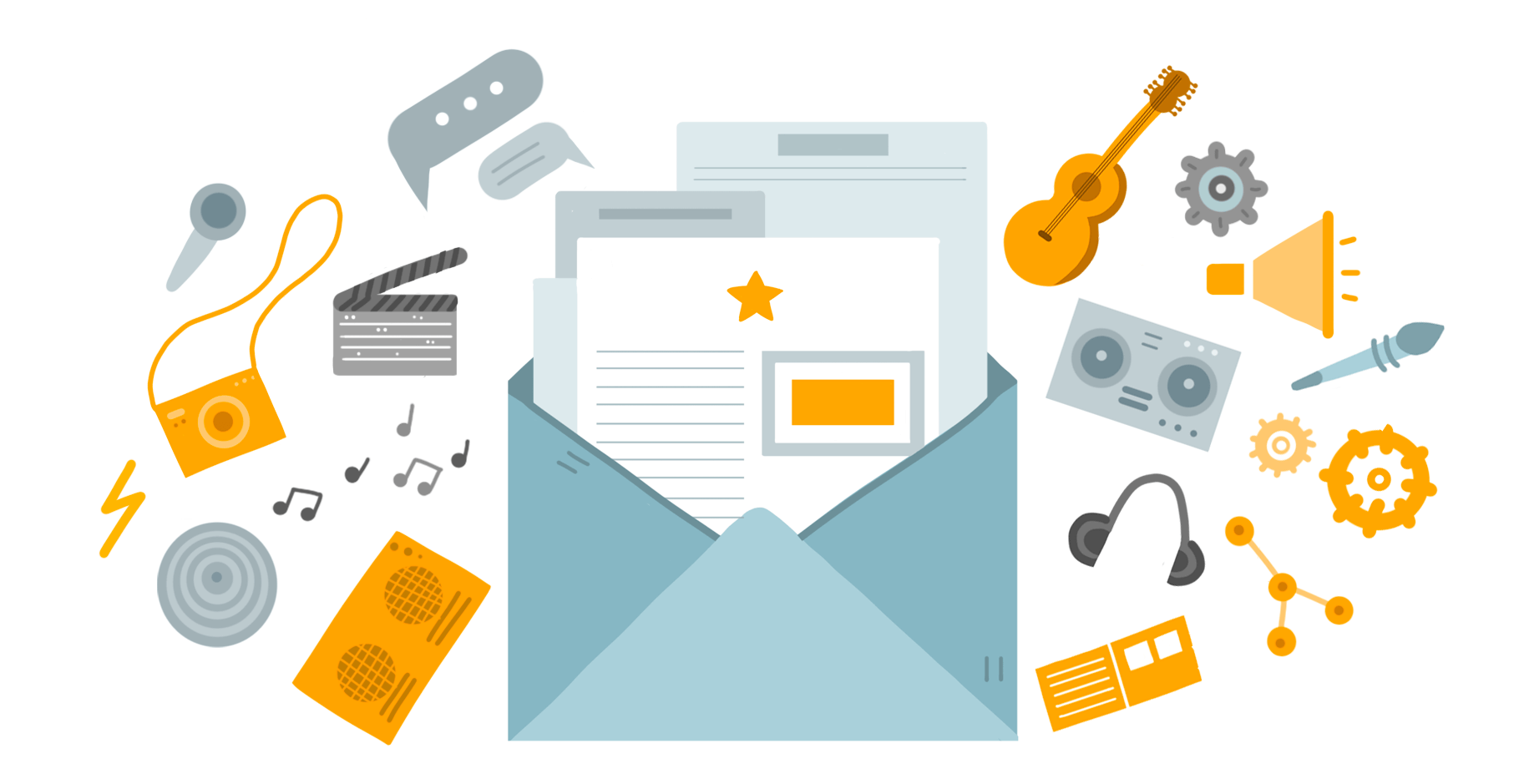Внутренние коридоры Егора Зарубина

«Уж будь, каким задумали тебя, маршируй до бессилия. Я вот ментом родился, ментом и останусь… И раз уж водка непременно нужна, значит, будем пить… Кто знает, может, придут новые поколения следователей, чьи страсти затрепещут не вокруг выпивки и карт, а только в масштабах служебных обязанностей, но не пора еще, не пора…» / Иллюстрации: Александра Худякова
В Концовск приезжает милицейский из Ленинграда Егор Зарубин, чтобы расследовать пропажу секретаря суда. Жители города разыгрывают вокруг него спектакль в духе «Ревизора», но только есть одна загвоздка — он только что зашился, поэтому вместо того, чтобы беспробудно пить на мероприятиях, куда его каждый день таскают, начинает действительно расследовать дело.
Сатирическая повесть Кирилла Комарова «Внутренние коридоры Егора Зарубина» — о жизни любого российского города, о ежедневной рутине его обитателей и о масках, которые все надевают в нужный момент. Как бывшая проститутка стала директором исторического музея и поборницей тоталитаризма? Почему почетный житель города притворяется местным дурачком? Зачем каждый вторник по местному радио разыгрывают порноспектакль? Какой страшный секрет скрывает андролог и почему называет жену Витя? Чем закончится запутанное дело о пропаже секретаря суда и для чего на самом деле Зарубина прислали в Концовск?
Глава 1. Егор Зарубин появляется со дна старых записей
Хочется быть сдержанным. Сдержанным и отстраненным. Заходить в любую комнату с видом и сущностью Победоносцева. Реагировать на неудачу с усмешкой, отпивать спирта без изменений в лице. Таких ненавидят и ими же восхищаются ― в высшей степени соблазнительная микстура…
Но, конечно, тогда нечего и мечтать о литературе…
Какой же ты писатель, если не сидел в шесть утра со звериной гримасой, пробужденной ничтожеством собственного рассказа?! В какую комнату собрался заходить, если первый же чванливый комментарий в сторону твоего романа буквально кричит тебе: разыщи, разыщи этого критика и изруби его чем-то топороподобным. А уж следом и себя… Чтобы больше никогда не касаться клавиш, не ставить проклятые запятые, которые еще со школы сделались твоим врагом: попробуй докажи, что ты автор и имеешь право пихать их, куда вздумается…
Но ― писать надо. Иначе откуда добыть веселье? Где нагулять аппетит к существованию? Только здесь ― в маленьком внутреннем дворике, огороженном ветхим давно не крашеным забором. Где слова и образы горкой дров лежат за сараем. И нужно сжечь их и купить машину новых. Но так не получается: дрова эти, те же самые, с тобой на всю жизнь…
…Одна моя книжка продавалась скверно, вторая ― лежала у издателя, ожидая рождения или гибели, а я принялся за третью и, как видите, написал даже четыре абзаца. По привычке в самом начале мне казалось, что я пишу что-то легкое, но величественное. Как же раздавлен и угнетен я буду в конце, каким жалким мне представится написанное после всех редакций. Но сейчас еще не пора. Сейчас ― отблеск совершенства падает с экрана на руки творца…
Я понял, что мне не хочется барахтаться в современности, писать о заоконном времени. С действительностью у меня не ладится. Пока что-нибудь не станет историей, писать о нем я не буду. Причем, желательно, историей выдуманной: возникшей и закончившейся в моей голове. Да и герои у меня почти всегда такие: заканчиваются с последней страницей, если не физически, то уж эмоционально. Что ж ― смиритесь: идей у меня еще книжек на пять, и сплошь одни и те же. Никакого развития. Зато без обмана: уныние и остроты. Можно читать пополам с Ремарком, и будет смотреться даже выигрышно…
По старой схеме ― истекающего, заканчивающегося героя ― появился и следователь Егор Зарубин. Он вышел из рассказов то ли десяти-, то ли пятнадцатилетней давности. Скорее всего, они никогда не будут напечатаны, а персонаж просто пропадал, и я подумал: почему бы не оживить его. Ненадолго, страниц на сто, а потом уж попрощаться наверняка. Да он и сам успеет убедиться, что дольше тут возиться нечего, так что выгода обоюдна. Я напишу очередную книжку для заведомо пыльных полок, а Егор Зарубин вытянется звонкой струной, пытаясь расследовать заключительное дело. Все как полагается: «фейерверк, автор умело жонглирует словообразами, роман-боль, ничего хуже не читала».
Фамилия у него хорошая, что называется, в традициях классики. Не Скалозуб, конечно, но тоже кое-что, особенно если сопоставить с первыми строчками этой книжки. Хуже нет ― выдумывать фамилии, а тут ― на: готовая и что-то там сообщает. А отчество-то ― Силантьевич. В одно ФИО можно заглядеться минут на семь: костер, а не повесть!
Кстати, в рассказах, где много лет ржавел Зарубин, у него водился подмастерье. Но теперь я решил его отсечь, пусть Егор Силантьевич действует один. С теми явлениями, с которыми он столкнется, лучше разбираться самому, хотя всегда мерцает соблазн позвать на помощь.
Почему он мне сейчас оказался так близок, так нужен? Не самый выдающийся, не самый неподкупный милиционер… Может, чтобы, когда кругом все рушится и падает, иметь хоть такую защиту? Вероятно. Лучше-то все равно нет…
Поскольку я обещал не обнажать реальности, отправлю Зарубина в девяностый год прошлого века. А что ― я уже был жив, многое помню, и никто не посмеет сказать, что я напутал или солгал. Хотя бы потому, что произодшее не существовало или вот-вот собиралось прекратиться. В любом случае ― имело отношение только к Зарубину и его переживаниям. Пожалуй, и название нужно вывести отсюда, из этой строчки.
Ну, что… 1990 год, оперуполномоченный Егор Зарубин, в последнем приступе милицейской службы, едет по заданию в город Концовск…
Глава 2. Приезжает
Егор Зарубин покинул купе. Там минуту назад разверзлась и съежилась одна из самых беспощадных и губительных катастроф в истории человечества. Нужно было выдержать изнурительный смех попутчика, вызванный его собственной шуткой. Нужно было придумать, куда устремить взгляд, при условии что тело смеющегося бушевало подобно океану. Нужно было хотя бы улыбнуться, чтобы океан не счел отсутствие улыбки за вызов для свежего анекдота. Зарубин притворился, что скучает по расписанию, и вышел. Он встал, вцепившись в холодный общественный поручень, и не видя ни городов, ни времени смотрел в стену. Колышущиеся занавески ласкали его, но не успокаивали.
«Куда я еду, ― думал он, ― куда я постоянно еду? Ни дня покоя. Как бабочка-пятидневка: живу без выходных. Весь Ленинград вместе с областью исполосовал. И везде эти рожи, рожи. Ожившие картофелины. Уже не различаю… Чищу картошку, а кажется ― знакомое лицо ножом полосую…»
Губы же его при этом беззвучно шептали:
― Ди-суль-фи-рам, ди-суль-фи-рам…
Это было имя его главного оппонента, самого хитрого, самого беспощадного. И нисколько не таящегося.
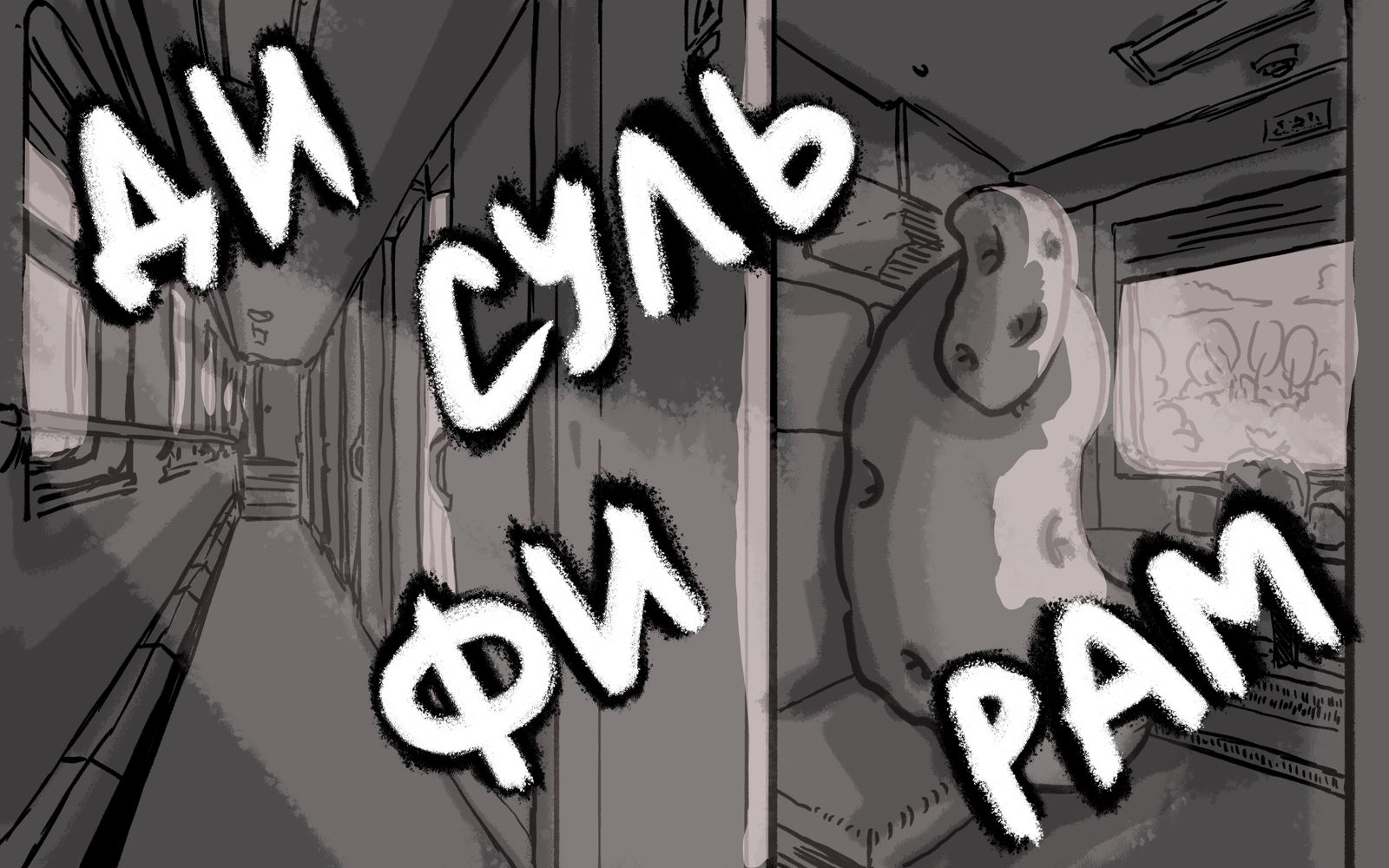
«Зашиться» приказала жена. Зарубин не планировал терять ее, а она ловко этим пользовалась. Жены были у всех вокруг, и Зарубин не собирался отличаться: все же не служба, а личная жизнь. Без вина и водки. Хотя поначалу спорил:
― Света, да как не пить? Как в милиции не пить? Да я себя в зеркале не опознаю, если не пить. Сразу физиономия нездоровая. А выпью ― красненький, двигаться тянет. Вон у нас Плакатов, ты знаешь, намного больше меня употребляет, так ничего, молчит же его жена.
― Ага, ― ответила Света, ― всегда хочется, чтобы кто-то пил больше тебя, тогда как-то спокойнее, да? Созванивалась я с ней: наравне вы пьете. Егор, я мечтаю на тебя в выходные посмотреть хоть раз. А то вы в пятницу как сядете, только к воскресенью и приходишь. А вместо премии ― полколоды карт. Да все больше циферки ― картинок почти нет.
Если бы Зарубин помнил гиперболу, он бы сказал, что это точно она. Но литературные приемы давно не мешали ему жить. А вот настойчивость жены ― еще как… Пришлось соглашаться…
Он навел фокус на расписание, приложился в мыслях к кувшину холодной водки и пошел в тамбур ― курить. Дым у него пока не отняли.
Концовск подвернулся, наверное, кстати. Тяжело было сидеть в отделе, куда потенциально каждый мог заглянуть с бутылкой и спросить: «Ну, что, прихватим за горлышко?» А в незнакомом городе всегда есть право прикинуться непьющим. По болезни или нежеланию. Нет, только по болезни.
― Вы не заметили, ― спросил его сосед-шутник, ― когда там Верхние Ванны?
― Нет, ― сказал Зарубин, ― сейчас посмотрю.
И снова с удовольствием пошел к расписанию.
Спать было жарко. Половину прохлады забирал себе попутчик, а другой половиной распоряжалась ампула в теле Зарубина. Выпей он сейчас, и блаженство ветерком пронеслось бы рядом, дотронулось мягким воробьиным крылышком, утерев капли со лба… Но пить воспрещалось. За блаженством стояли адские демоны и грозили не то окровавленными граблями, не то милицейским жезлом с насаженной на него головой Дзержинского. К счастью, Концовск наступал в шесть утра и немного свежести Зарубину все же досталось.
Его встречал водитель на ЗИЛе. Зарубин любил их за добрую коровью морду, но пастбища не предвиделось, и он напрямую спросил водителя Костю:
― Чего это машина такая здоровая?
― Да мне сказали, что ты с Ленинграда, я думаю, сколько у тебя там вещей, может, много. Бывшая столица все-таки. Да и другой у меня нет.
― Понятно, ― сказал Зарубин, хотя все равно многое осталось непонятым. Они поехали по улицам Концовска. На приборной панели стоял радиоприемник с вытянутой в окно антенной. Он кричал:
Любовь источает электрический пар,
Но я не хочу курить сигареты,
Меня привлекает дым других времен:
Эрозия звука, анафема света…
Костя сильно выплюнул папиросу на дорогу.
― Т-фу, ― сказал он, ― анафема его привлекает. Развелось этих подонков… Черт-те что несут… И музыка-то вся ворованная. И ладно б у своих ворованная, это не зазорно как-то, а то ведь с Запада прут.
― Ага, ― согласился Зарубин, ― у нас тут на металлистов рейды были. Заходим ― а они сидят в своих подвалах, все в цепях, пилят на гитарах ― как помехи телевизионные. А прислушаться ― ничего родного, чистый Slayer.
― Ужас. ― Костя поморщился. Зарубин обратил немного внимания на радиоприемник.
― КЗР. Киевский, что ли?
― Не-ет, наш, концовский.
― Что-то я не слышал о таком заводе.
― Так правильно не слышал. Это кооперативные. В Киеве покупают, к нам привозят и в два раза дороже продают. Удобно: даже название менять не надо. Молодцы, здорово придумали. Я ж и говорю: когда у своих, оно честнее.
― Кстати, ― вспомнил Зарубин, ― что за город у вас ― Концовск? В честь революционера?
― Конечно, не в честь драматурга же, ― улыбнулся Костя. ― Был у нас такой ― Михаил Сергеевич Концов. Не слышал? Нет? А он был. Партийные клички придумывал. Молотову, Зиновьеву, в общем, всем, кто хотел. А тогда все хотели, сам знаешь, у него работы навалом было. Поэтому его особо история не запомнила: все в кабинете, в кабинете. Еще и города переименовывал: дел по шею. Москву вот не успел переименовать, а планировал.
― Во что?
― В Концовск. Но не успел: расстреляли.
― Почему?
― Да-а, Бухарин разорался: а мне где кличка? Почему я должен эту фамилию таскать? А что если ее кто-то за псевдоним примет, хорош я буду! Михаил Сергеевич оправдывался: ну нету больше металлических предметов, которые можно в фамилию превратить. Но разве кто станет слушать. Раз-раз и зачехлили нашего Михаила Сергеевича. Ну, мы и решили: человек он был хороший, городу всегда помогал. Вернее, скажем так, ничего плохого не делал. И назвали.
Светофор остановил движение. Рядом с ЗИЛом затормозила свадебная «Волга». Без жениха и невесты она стояла совершенно чуждая празднику.
― Что-то рановато, ― кивнул Зарубин.
― Полседьмого, ― задумался Костя, ― да нет, нормально. Пока за молодыми заедет, пока в горсад съездят ― пофотографироваться. Нормально. Только один хрен ― разведутся.
И он выплюнул в окно вторую папиросу за утро.
Они подъехали к гостинице. Костя пожелал Зарубину отдохнуть и предупредил, что заедет к двум. Зарубин вошел в холл. Тоскливые фикусы, линолеум, лишь в воспоминаниях хранящий желтизну узора, запах позавчерашних голубцов, пустая стойка, часы, показывающие время в Концовске, Москве и еще полдюжине городов одного часового пояса… Взгляд Зарубина растворился в циферблатах…
«Подпоясаться бы этим поясом, ― неожиданно подумал он, ― и распоряжаться всем временем. На голову ― шапку из назначенных встреч, на ноги ― сапоги из железнодорожных расписаний ― и на какие-нибудь танцы. А там ― сорвать шапку и топтать ее сапогами. Вон попугай ― сидит в клетке и ничего не знает: когда я приехал, когда я уеду, во сколько. А мне зачем это знание? Только чтобы знать, что сорок два года? Что осталось меньше, чем прошло? А потом ― никаких часов и опозданий…»
Он вздрогнул и «вернулся» в гостиницу. Эти видения уже с десяток дней не давали ему ни покоя, ни привычки. Они начались на пятый день его вынужденной трезвости и всё растягивались, увеличиваясь в продолжительности и численности. Из обрывков мыслей его сознание ткало фразы, которые он не встречал ранее ни в своей, ни в другой знакомой ему голове. Зарубин не знал, что делать с ними: ему было и неловко, и страшновато. Человек-задача, человек-схема ― он не мог поделиться этими формулировками ни с кем. Но и носить их внутри тоже не улыбалось: неизвестно, в какой ядовитости плод они способны были оформиться.
Он хорошо помнил первое явление слов, выстроившихся в незнакомую шеренгу. Ему на работу позвонил отец и спросил, что, кроме картошки и утки, передать из деревни. Зарубин попросил еще сала, чтобы порадовать отца, не щадившего свиней для такого дела, положил трубку и задумался. «Какая обильная и огромная у нас страна, сало из Тверской области поедет в Ленинг…» и вдруг эта мысль лопнула и исчезла, словно новый сверхскоростной экспресс снес на полном ходу ветхую телегу, застрявшую на рельсах. И с диким свистом перед глазами Зарубина пронеслось: «В пятнадцать лет все горазды заявлять, что не будут как отец, когда вырастут, и во что превращаются потом ― едва ли не в святилища ретроградства и пессимизма». Зарубин замер и машинально набирал одну и ту же единичку на диске телефона. Что это было? Из-за какой неведомой грани его неограненной жизни выскочила эта фраза? Он очнулся: его позвал Плакатов.
― Ты чего? ― спросил он. ― Что за номер набираешь? Миллион сто одиннадцать тысяч сто одиннадцать?
― Слушай, ― перебил Зарубин, ―, а что такое ретроградство?
― Ну… Когда города старые, так мне кажется… ― ответил Плакатов. ― А ты там что ― кроссворд вскрываешь?..
Наконец за стойкой появилась женщина.
― Здравствуйте. Давно ждете? А я вот поспать отошла: вчера вечером. К нам мало кто ездит. Но гостиница вся занята, вам только номер остался. Лучший, между прочим. «Генсек-люкс». Хорошо вас Костя довез?
― Вы его знаете?
Женщина рассмеялась: словно ландыши упали в хрустальные бокалы.
― Ну, а как же? Что ж я ласточка-несмышленыш ― брата не знаю!
Зарубин пригляделся: действительно ― брат. В том смысле, что сестра сейчас стояла перед ним.
― Хорошо довез, спасибо. Он еще за мной к двум заедет.
― Ох, вы уж меня совсем за дуру держите! Это-то я тем более осведомлена!
― Может, вы осведомлены и зачем я приехал?
Сестра погрустнела.
― Вот это нет… нет. Но поверьте, ― она просветлела, ― очень скоро выясню.
Зарубин поднялся в номер. Сестра и вправду была сильно похожа на брата. Тот приехал за Зарубиным на грузовике, она же дала ему огромный номер из семи комнат. Зарубин, как сквозь чащу, брел по холодным мглистым залам: единственная светлая комната с душевой была в самом конце. Видимо, здешние жители считали, что из Ленинграда приезжают великаны с вагонами нижнего белья и рубашек. Зарубин добрался до кровати, бросил худосочную спортивную сумку на стул, разделся и лег.
― Надеюсь, ― сказал он вслух, ― никто не постучит в дверь. Я не скоро найду дорогу назад.
Нервно, с ухающим из глубин груди сердцем, он уснул. Перед самой пропастью сна тоненький канатик мысли попытался удержать его на обрыве. Зарубин успел увидеть ― «А ведь смех по-настоящему нужен лишь, чтобы прятать за ним…» ― и упал в бархатную тьму. А когда проснулся, ему уже было не до видений: до приезда Кости оставалось всего полчаса.
Глава 3. Знакомится
Гостиничный комар выкачал из Зарубина полбидона крови, и теперь его одолевали нестерпимые приступы самочесания. В одни и те же секунды ему приходилось слушать судью и сжимать руки в карманах, чтобы не скинуть брюки, устремляясь к заветному зудящему подколенью. А судья все говорил и говорил, являя собой тот тип человека, который из дюжины слов может сколотить поэму…
Савелий Пескарев, секретарь суда, пропал две недели назад. Просто не пришел в понедельник на работу. Ему позвонили домой: гудки. Поискали в пивной: мимо. Связались с родными: все Пескаревы на месте, кроме Савелия. Дальше этих поисков не продвинулись. Вместе с Пескаревым исчез и учетный журнал, в котором хранились сведения о будущих заседаниях. Поэтому судья счел правильным закрыть суд до обнаружения секретаря.
― Вот так и сидим, ― сказал судья, ― без работы. Так что уж вы, пожалуйста, сыщите нам его. Мне судить хочется. В соседнем районе вон, что ни день то избиение или угон. А у меня? Как в домино ― пусто-пусто.
― Федор Карпович, ― сказал Зарубин, ―, а фотография?
― Конечно, конечно.
Судья достал из внутреннего кармана пиджака снимок. «Десять на пятнадцать», ― прикинул Зарубин и взял фото. Упитанный молодой парень стоял под пальмой: оживший пирожок с рисом в красной футболке.
― Это восемьдесят восьмой год, Хоста, ― объяснил судья.
― Он сильно изменился?
― Совершенно никаких изменений.
Зарубин представил, что потерявшийся Пескарев так и ходит третий год в красной футболке и носит за собой пальму, чтобы его не путали. Он вдруг задумался.
― Федор Карпович… а откуда у вас такое фото?
Судья улыбнулся, словно предвидел вопрос.
― Да это он не знал, что нам привезти памятного… Ну, вино, ну, раковины… А так, чтобы личное, чтобы каждому… Вот он и сделал пятнадцать фотографий и всем раздал, у него еще остались… Эх, Савелий. Такой парень ― и пропал…
Мимо шла уборщица с ведром и шваброй в кошмарном фиолетовом халате. На ведре было написано «Рыба». Судья окликнул ее:
― Мироновна.
― А.
― Савелий-то, говорю, какой парень был…
― А что ж ― помер? Ох…
― Да куда помер! Пропал всего лишь.
― Ну, да, ну, да, пропал. Не нашли?
― Ищем. Вот из Ленинграда человек приехал.
― Ну, дай Бог, только такого, как Савелий, уже не найдешь.
― Да он же его и найдет!
― Ну, с Богом.
Зарубин смотрел вслед ее халату.
― Мне надо осмотреть его рабочее место. А потом и квартиру.
― Да это всё осматривали уже. Возьмите все данные у местных коллег, и ничего осматривать не нужно.
― Федор Карпович, я должен сам все осмотреть. Зачем же я ехал…
― Ну, потому что мы друзья с вашим…
― Это я знаю, но все же.
― Ну, хорошо, хорошо… Осматривайте.
― Сейчас рабочее место, а потом ― квартиру. Далеко она отсюда?
― Нет, нет, ни в коем случае, ― судья взмахнул руками, ― это чересчур. Рабочее место осматривайте сегодня, а потом ― у нас запланирован обед. Вы думаете, у нас ежедневно люди из Ленинграда останавливаются, тем более, с вашим контрзаурядным опытом. Все хотят с вами познакомиться.
― Как все? Весь Концовск?
― Ну, что вы… Только лучшие представители медицины, культуры и отдыха! А завтра ― приступите. Вы же не обедали!
― Не обедал.
― Неужели не хотите?
Зарубин медлил с ответом. Обедать он, куда деваться, хотел. Но с тОго СаМогО дня вся еда давалась ему с боем, наподобие штурма крепости. Как прекрасно было раньше: выпить рюмочку ― или рюмищу ― и закусить отцовским салом на черном хлебе с горчицей, а сверху еще ― с бочковым помидором. После этого любые щи ― праздник. А после щей можно наливать снова и снова. Теперь же, когда возбуждать прожорливость приходилось компотом, еда медленно, но неуклонно ехала в сторону безразличия. Но судья настаивал да и «лучшие представители медицины» уже, видимо, караулили за дверью и Зарубин сказал:
― Хочу. Но сначала ― рабочее место.
Судья кивнул.
Осмотр ничего Зарубину не предложил. К тому же Федор Карпович стоял в метре от него и повторял:
― Егор Силантьевич, нас ждут. Егор Силантьевич… Возьмете у коллег. Нас ждут.
― Поехали, ― сказал Зарубин.
По дороге до ресторана Зарубин рассказал судье печальную историю, насаженной ему трезвости.
― Хочу попросить вас, ― сказал он, ― не предлагать мне водку. Можно так?
― Ну, как плохо, ― ответил судья, ― там и водка, и коньяк, и вино. Вам совсем нельзя?
― Совсем.
― Я-то ладно… Но там люди, которые точно пристанут. Особенно, когда выпьют. Давайте сделаем так: поставим рядом с вами графин с водой, и вы сами себе наливайте. Иначе я не знаю как сделать. И женщин с вами посадим. Вы им будете наливать, а им себе наливать не дадите.
― А там и женщины будут?
― Конечно. Вам теперь вдвойне обидно, да? Ну, простите. Глеб Степаныч ничего мне не сказал про ваши… швы.
― Да это совсем недавно, он, может, и не знал еще.
И Зарубин в тысячный раз проклял дисульфирам.
Во дворике перед рестораном, укутанный елями, стоял бронзовый бюстик.
― Михаил Сергеевич Концов, ― представил его судья.
― А Ленин где же? ― спросил Зарубин.
― На главной площади, ― без обожания ответил Федор Карпович.
Они вошли с заднего входа. Толстогубый официант проводил их в отдельный зал. Внутри было темно, горели толстые заговорщические свечи в золотых подсвечниках. Зарубин увидел длинный стол и человек десять за ним. Он остановился, осматриваясь… «По какую сторону стояли бы ваши отцы в подвале Ипатьевского дома? Да, ясно ― по какую. По ту же, что и мои… Тогда к чему, к чему эта расписная брусника на сводчатых потолках? Рисовали бы отрубленные головы или уж хотя бы заборы… Что за свечи? Из какого французского ресторана? У вас же должно полыхать электричество, чтобы ни одна лишняя усмешка не проскользнула мимо глаз…»
― Егор Силантьевич, ― повторил судья, ― задумались?
«Господи, в каком „Огоньке“ я это вычитал», ― подумал Зарубин.
― Эмма Дмитриевна Сомченко, ― сказал судья, ― директор исторического музея.
Чуть потрескавшаяся, но еще не списанная жизнью полная женщина пожала Зарубину руку. Ее ладонь была нежная и влажная, точно безе, минуту назад из духовки.
― Сергей Захарович Карасев, ― почетный житель нашего города.
Веселый старик с услужливыми глазами вскочил со стула.
― Александр Андреевич Меченосов, врач-андролог.
Пышный задумчивый мужчина протянул руку.
― Серафим Павлович Рогатов, директор бани.
Небольшой человечек с достоинством и золотыми зубами наклонился, не вставая.
Дальше вставали и сидели еще директора, поэт, военный: их Зарубин уже не запомнил. Да и запомнившихся хватило бы, чтобы описать остальных. Все они были как выводок одной матери. Кто-то остался жить с ней, кого-то отдали в приют, третьего воспитала мачеха-улица, но все сошлись сегодня здесь ― на общей сцене перед единственным зрителем. Зарубина и посадили во главу стола. Слева от него сидела Эмма Дмитриевна, а справа ― Александр Андреевич.
Стол был очень русский. Деревянные салатники с квашеной капустой, огурцами и помидорами, вареной картошкой, деревянные блюда с бужениной, деревянные селедочницы, икорницы и водка, водка, водка. Зарубин точно ослеп. Он так любил даже небольшие русские столы, а этот словно был их императором и по мебельным характеристикам и по обильности. Полуприкрытыми глазами смотрел Зарубин на шпроты и мясо с хреном и понимал, что без рюмки не дал бы за них и треть цены. Официант поставил перед ним графин с водой.
― Личный графинчик? ― вежливо пошутил андролог.
― Норма, ― нашелся Зарубин, ― ни больше, ни меньше.
― Как по-столичному, ― сказала Эмма Дмитриевна. ― Изысканно! А то у нас вечно Карасев нажрется, потом два дня тут живет, в ресторане.
― Так вы ж сами ему подливаете, Эмма Дмитриевна, ― напомнил андролог.
― Грешна, грешна…
К счастью, никто больше не обратил внимания на зарубинские «пристрастия». Судья поднялся и произнес тост за скорейшее обнаружение секретаря, за Зарубина и за процветание города. Карасев выкрикнул: «Верно», и все выпили. Зарубин закусил воду окрошкой… Видимо, после первого тоста разрешалось перейти на шампанское, потому что Эмма Дмитриевна перешла. Она быстро опустошила два фужера и подступилась к Зарубину.
― А вы правда работаете в милиции?
― Правда.
― А вы были в тюрьме?
― Был. ― Зарубин улыбнулся.
― А что самое главное в камере? Ну, вот, представьте, я туда попала. И что?
«Бей опущенного табуретом, главное не прикасайся», ― подумал Зарубин, но сказал другое:
― Не лгите, все равно раскроют.
― Ох, как это… сексуально.
― Вряд ли, ― сказал Зарубин, ― вы-то попадете в женскую камеру.
― А вот и нет, я же знакома с вами. Договоримся?
И она засмеялась. Зарубин повернулся к андрологу. Тот сидел, что-то вспоминая.
Судья, уже не поднимаясь, предложил следующий тост. За полчаса их было поднято четыре штуки и еще несколько ― неколлективных. Мужчины расстегнули верхние пуговицы рубашек. Эмма Дмитриевна надолго ушла в туалет. Андролог наклонился к Зарубину.
― Вы не слушайте ее… Никакой она не директор музея.
― А кто?
― Ну, нет, она директор музея, но так ― числится. Засунули ее на эту должность. А так она ― шлюха.
Слово профессионально отозвалось в Зарубине.
― Как это?
― Ну, вот. Думаете, чего она тут сидит: с судьей, с директором рынка. Кто б ее из музея сюда пустил.
― А-а.
― Но и это ― по старой памяти. Она давно уже не работает.
― Почему?
― Да с ней случай был. Федор Карпыч рассказывал. В шестидесятые Хрущев должен был приехать, с авангардистами бороться. А у нас их сроду не было. А Эмма Дмитриевна была ― и уже на нужных рельсах. Она тогда благоухала, как гвоздика, я фотографии видел. Решили ее под генсека бросить. Нарядили под авангардистов каких-то студентов, думали, Никита Сергеич с ними разделается, ну и там дальше банкет, кукуруза вареная. А он прицепился: что за авангардисты, кого подсовываете, это ж хорошие советские ребята. Всех отчитал, разозлился, на банкете уже сидел недовольный. И тут выплывает Эмма. Говорят, красивая, тоненькая, как Симона Синьоре. И к Хрущеву. А он вскочил и кричит: что это? Это шлюха? Что за шлюхи у вас? Мне крестьянку надо, стахановку, чтоб надои рекордные с каждой сиськи… Раскраснелся, как арбуз, и ушел. А Эмму как удар шарахнул, головой поехала. С тех пор ни с кем за деньги не может. Помыкалась лет десять, дали ей этот музей, вот работает.
― Ого, ― сказал Зарубин. Все выпили еще по одной и пошли курить. Зарубин пропустил несколько тостов: вода в его графине уже иссякла больше чем наполовину. Остальные же напротив ― расцветали и зрели. Уже не раз вскакивал со своего места Карасев, из почетного жителя превращающийся в паяца. Директор рынка просил передать по столу новость о волшебной баранине, что обещала заявиться завтра. Местный поэт в задумчивости бормотал что-то, склонившись над грязной тарелкой. Эмма Дмитриевна, скинув музейную личину, шептала непристойности. Андролог наклонился к Зарубину:
― Мне кажется, грядут какие-то ужасные перемены, ― сказал он, ― вы ничего не слышали о таком?
― Нет, ― ответил Зарубин, ― в каком смысле?
― В стране. Как будто через пять лет все станет по-другому.
― Откуда у вас такие мысли?
― Вижу. Вы не забывайте, я андролог. Я и не такое вижу.
Он снова впал в подобие комы. Зарубин пошел в туалет, а когда вернулся, обнаружил тарелку с маленькими пирожками.
― Что это? ― спросил он недиректора-нешлюху Эмму Дмитриевну.
― Это наши пирожки фирменные, клошарики называются. Слоеное тесто с… ну, знаете, жопки от маринованных огурцов когда отрезаешь, жалко их выкидывать… Вот как набирается их достаточно, печем клошарики. Попробуйте. В качестве закуски ― ой-ой-ой.
«А в качестве пирожков?» ― подумал Зарубин. Ему стало надоедать это застолье. Он только пытался играть в пьяного, а все гости уже углубленно опьянели. Шампанское приносили несколько раз, Карасеву и двоим-троим обновили водочные графинчики. Колбаса падала с хлеба. Расстегаи и клошарики рвало начинкой на скатерть и брюки. К Зарубину с невинными вопросами по очереди подошли все. Что носят в Ленинграде? Не арестовывал ли он Довлатова? Зарубин не пил, но эти люди казались ему пьяными видениями: безобразными, словно свиньи в человеческих ролях. «Любое животное в человеческой роли, ― думал он, ― омерзительно. Лучше уж ему оставаться последним богомолом, нежели надевать серенький костюмчик, сандалии с не самыми безукоризненными носками и поглощать хлеб с колбасой и маслом в человеческой столовой». Ему приходилось смеяться, когда смеялись они, и задумываться, когда они доставали из себя что-нибудь глубокомысленное.
Снова пошли курить. Перед выходом стоял ЗИЛ, похожий на тот, что утром вез Зарубина в гостиницу. Дверь открылась, и на улицу спрыгнул Костя с папиросой в зубах.
― О-о, ― сказал он Зарубину, ― здравствуйте, здравствуйте. А я вот перевозил после вас семью, решил перекусить.
Он показал на старое пианино в кузове. Зарубин даже забыл, что он «пьян».
― А что ж пианино?
― Да-а… Новая квартира меньше, чем старая. Попросили пока повозить его, может, и не нужно оно.
Пианино заметила Эмма Дмитриевна.
― Господа, ― закричала она, ― давайте споем.
Приблизившись к кузову, где стоял Зарубин, она сказала:
― Вы, наверное, не знаете, но я не только директор музея. Я еще и… пою.
Она требовательно крикнула:
― Карасев!
А Косте сказала:
― Откройте-ка.
Карасев вынырнул из-за кузова.
― Помогите забраться.
Карасев встал на четвереньки. Эмма Дмитриевна поставила ему на поясницу сначала одну массивную ножку, потом вторую. Все прервали курение и засмеялись. Зарубин смотрел на Карасева, который, казалось, сейчас треснет. Смотрел на Костю, который не знал, как реагировать. Смотрел и думал.
«Везде… Везде это бесконечное жалкое лакейство… С огромной радостью и рвением лакеи приносят себя в жертву хозяину. Себя, достоинство и даже собственное тело. Как будто неугомонные полоумные потомки Гоголя пишут и пишут сценарий: и чем дальше, тем развратнее, отчаяннее и горше. Почему вчерашний лакей, обернувшись господином, ставит себя на лестничный пролет выше всех. Почему не помня своего прошлого, пытается утопить в чужом подобострастии свое настоящее? Смотри, ничтожный, как много я могу, хотя вчера еще уворачивался от господских подзатыльников».
― Ай, ― весело вскрикнул Карасев: Эмма Дмитриевна попала каблуком во что-то чувствительное. Она подошла к пианино, откинула крышку. Все сгрудились вокруг ЗИЛа. Пианино стояло боком, и Эмма Дмитриевна тоже села им же.
За синим-синим морем,
За очень синим морем,
Вы грушевою веточкой
Ласкали губы мне.
Разлука поджидала,
И море обжигало,
И аромат дюшеса
Тонул в морской волне.
А после было утро,
Раздета и разута,
Проснулась я в постели,
Вся влажная от грез.
На столике записка
И груш большая миска.
В записке лишь три слова:
«Я вынужден адьёс!»
…Я мотыльком отважным,
Корабликом бумажным,
Лечу, плыву сквозь годы
На всполох фонаря.
А он горит лиловый,
А он горит садовый,
И масло с него каплет
Чуть гуще янтаря.
Зарубин завидовал. Выпившие люди подле него… как хорошо им было. С каким восторгом слушали они песню. Какой волнующей и нежной, вероятно, она чудилась им. А он не мог до конца ощутить ее трепет и тоску: вода в графине обманула окружающих, но не его. Он подошел к судье и спросил, нельзя ли ― после песни, разумеется, ― подать чаю. Судья встрепенулся:
― Ну, конечно. Карасев! Карасев! Сбегай и скажи, чтобы готовили чай. У нас же торт! Хорошо, что вы вспомнили. Его целый день вчера мастерили.
То ли от грядущего чая, то ли от дикой музыки, несущейся с грузовика, Зарубину стало поприятнее. Песня кончилась, Эмму Дмитриевну приняли и бережно опустили на землю. Все пошли обратно. Шофера Костю так никто и не позвал, хотя, очевидно, он возил тут всех. За стол уже не садились, все бродили вокруг, примыкая к беседам. Зарубин спросил андролога:
― А за что Карасеву дали «почетного жителя»?
― А, ― отмахнулся андролог, ― ни за что. В каждом городе должен присутствовать почетный житель. Вроде как по описи. Ну и этому лет пятнадцать назад дали. Толкали детей в воду, а он спасал.
― Детей?
― Ну, да. В первый раз фотограф не пришел, второй раз ― ребенок расшибся так, что уже в газету не поместишь. На третий или четвертый раз только получилось. Да и не Карасеву это почетное жительство адресовалось, не такому уж дураку планировали дать. Но тот человек заболел, а там начальство ехало, в общем… Вот такой у нас житель в почете. Вы знаете, кстати, у него…
И Александр Андреевич сообщил о Карасеве пикантную андрологическую подробность.
Принесли чай и торт. Помидоры, буженину и прочее не уносили. На столе стало тесно. Пьяный директор бани ел отовсюду. Женщины и Карасев по-детски налегли на сладкое. Торт был неопрятный, подтаявший, а фарфоровые чашечки ― слишком уж синими, с едва заметными белыми проплешинами. Зарубин сделал два глотка чаю, поставил чашечку в блюдце, и ручка ее отвалилась. Эмма Дмитриевна сказала:
― Ха-ха-ха!
Ее губы покрывала шоколадная глазурь.
― Какой ненадежный фарфор, ― сказал Зарубин.
― А это наш. Тут у нас деревенька недалеко, там кузнец делает сервизы. Все вручную, все сам.
― Кузнец?
― Да, да. Хобби. Вы надолго к нам? Может, успеете съездить туда?
― Пока секретаря не найду.
― Ну, это бог знает на сколько растянется.
Минут через пять чашка треснула и у директрисы гимназии. Но это, видимо, ожидалось: чашку просто заменили.
Зарубин полагал, что торт ― финальная стадия ресторанной эстафеты. Максимум еще танцы. Ему надоели кузнецы, кующие фарфор, фальшивые певицы и вода в графине для водки. У всего тут имелась вторая, а то и третья сторона. Начиная с самого Зарубина.
Танцы не случились. Судья подозвал Камбалаева, военного в отставке, и сказал:
― Алинур Алинурыч, спросите вы.
― Почему я?
― Вам как-то ближе… Вы ― военный, он ― милиционер. Дисциплина.
― Вот именно, дисциплина. Если он дисциплинированный, он нас за это и упрятать может. Ну и вы ведь ― судья. А я вас еще бандитом помню. Так что ― как раз вам поближе.
― Алинур Алинурыч… Сделайте одолжение. Вы, если что, всегда обратно в Кыргызстан вернетесь, а я ― из Концовска, мне деваться некуда.
― В Кыргызстан? Спасибо… Ладно, спрошу. А может, сегодня пропустим?
― Надо его прощупать. Чего откладывать? Если расшумится, завтра извинимся, сошлемся на то, что пьяные были.
Камбалаев хлопнул рюмку и, не закусывая («Закуски полно внутри, как-нибудь сторгуются»), побрел к Зарубину. Судья наблюдал за ними. Эмма Дмитриевна спала, андролог ушел курить в одиночестве, и Камбалаев сел на его место. Он знал, что сон Эммы Дмитриевны всегда глубок, и не боялся, что она перетянет разговор на себя. Он боялся другого.
― Егор Силантьевич, ― сказал он, ― у меня к вам деликатный вопросик.
― А-а, какой?
― Вы как относитесь к запрещенным удовольствиям?
Зарубин вздрогнул. Что ему предложит этот кыргыз? Достанет шприц? Пригласит в комнатку к педерастам? Зарубин мысленно листанул кодекс. «От проституции откажусь, на наркоту закрою глаза. О мужеложстве доложу», ― подумал он.
― А что вы имеете в виду?
Камбалаев потерялся: прямота военного сейчас никак не помогала. Одно дело заходить в каюту на родной «медузке», как они с матросами называли старенькую подводную лодку, и противоположное ― сообщать заезжему следователю о незаконных пристрастиях. Камбалаев незаметно выдохнул носом.
― Есть тут у нас, ― он зашептал, словно открываясь бабушке в онанизме, ― одна радиостанция…
― Так.
― Наша, концовская.
― Ага, так…
― Вещает по вторникам, а сегодня у нас как раз…
― А что там передают? Если там что-то иностранное, то хочу сразу предупредить…
― Нет-нет, там другое.
― Что именно?
Камбалаев посмотрел на спящую Эмму Дмитриевну и ответил на французский манер:
― Порно.
Зарубин не понял:
― По радио?
Камбалаев виновато кивнул, сетуя на отсутствие телеверсии:
― Да.
― Как это?
― Сидят два человека и читают. Уж не знаю, как: выдумывают они это, или книжка какая-то у них с пьесами. Но ― каждый вторник, в восемь вечера, когда все поужинали после работы, выпили по стопочке, сидят в домашних халатах… Семьями… Да… Так что вы скажете?
― Я… ― ответил Зарубин, ― вы, конечно, понимаете, что это статья.
― Какая?
― До трех лет.
― Как коньяк, ― задумчиво сказал Камбалаев.
― Но, поскольку я не на своем участке… И мы все тут выпили и завтра ничего не вспомним… Один раз я готов закрыть глаза…
Камбалаев обрадовался.
― Закрывайте, закрывайте… Они и не нужны. Для радио-то.
Он схватил Зарубина за локоть.
― Спасибо, Егор Силантьевич, спасибо.
Зарубин не помнил имени Камбалаева и просто приподнял чашечку с чаем в ответ.
Как засуетились люди. Минуту назад в них нельзя было распознать и намека на стремление. Они сидели, обжираясь, заливая проглоченное водкой. Тягучая неповоротливая ленность ― вот что ими не двигало. А тут ― все мгновенно поставили стулья полукругом у декоративной русской печи, официант вынес радиоприемник, закрыл двери. Спящие проснулись. Зарубин сидел теперь с Камбалаевым и Карасевым. Судья настроил радиоприемник и сел. Повернув время в обратную сторону, на смену электричеству явились свечи. Стало таинственно и торжественно.
― Ха, ― сказал Карасев, ― послушаем.
― Заткнись, идиот, ― сказали справа. Карасев не мог сидеть спокойно. Зарубин чувствовал, как от него пахнет съеденным.
Радио тихонько шипело. Потом вдруг затрещало и приятный мужской голос сказал:
― В эфире радиостанция «Вечерний Концовск».
Зарубин посмотрел на часы. Восемь тридцать две: радиолюбители опоздали.
― Сейчас вы прослушаете постановку «Русалка в каменных джунглях»…
― Русалка… ― прошептал кто-то. Радиоголос продолжал:
― С большой неохотой и тяжелым сердцем отпускал фермер Джонс свою единственную дочь в далекий город. Много бед и забот предвидел он на ее пути. Много любви и терпения вложил он в нее, и росла она отзывчивой и трудолюбивой. А главное ― скромной.
Зарубин увидел, как через несколько стульев заерзала Эмма Дмитриевна.
― Не напрасно боялся фермер грядущих неудач. В самом начале караулили они его кровиночку, его маленькую Джилл. Едва покинув родную деревню, где каждый стог и каждая корова были знакомы ей, она сразу попала в непредвиденную ситуацию. Оказалось, что автобус уже ушел, и Джилл могла рассчитывать только на попутку. Прежде встречала она лишь добрых людей. Мельник угощал теплой сдобой. Старый охотник Смит ― едва добытым зайцем. Поэтому и теперь надеялась Джилл на доброту и понимание. Однако водитель красного кабриолета имел о доброте ее края весьма отдаленное представление. Через несколько миль остановился он в глухой местности и сказал, что они не двинутся дальше, пока Джилл не…
Все, как один, наклонились вперед: поближе к радио.
― О, нет, что это? ― воскликнула Джилл.
― Это ― твой пропуск в город, ― ответил водитель, сжимая зубами огрызок сигары. ― И ты должна поставить на него печать.
Затрепетали русалочьи локоны Джилл: непросто дался ей пропуск. Но не в характере жителей ее деревни было отказываться от мечты. Недаром по всей округе шла слава о них, как о безрассудных мечтателях…
Свечи горели. Все сидели, не дыша. Русалка блуждала по каменным джунглям минут сорок, растрачивая добродетель в ответ на пороки людей. Справедливости ради, лишь соседка по общежитию отнеслась к ней по-человечески: сводила в гимнастический зал, познакомила с подругами…
После постановки застолье отяжелело и посерьезнело. Даже балаганный Карасев кусал губы, стоя в одиночестве у занавески. Мрачно капала водка в захватанные рюмки. Курили прямо за столом. Зарубин хотел что-нибудь подумать, но не мог. Наконец, еще часа через два решили, что пора расходиться. Карасев набрал еды в потрепанный школьный ранец.
Оказалось, что Костя верным псом дежурит внизу. При виде компании он просветлел, откинул борт грузовика и приставил недлинную лесенку.
― Сам сколотил, ― объяснил он Зарубину, ― для таких случаев. Поднимайтесь, пожалуйста.
Эмма Дмитриевна сразу кинулась за пианино. Никто не нуждался в песнях, поэтому она просто заиграла мелодию, которой всегда заканчиваются подобные вечеринки. Мелодию, что еще позавчера была сильно хуже здешних, но вчера ее разрешили, и сегодня уже пробовали на вкус. Зарубин стоял в углу, грузовик медленно катился по улицам темнеющего Концовска. Он не пил, но чувствовал себя пропущенным через мясорубку многодневной попойки. Одежда была не свежа, попутчики еще хлеще. С одеревеневшими лицами все ехали, молча, пока Камбалаева не начало рвать за борт. За ним и директор гимназии запросилась в туалет, угрожая «сесть здесь»… Все закурили. Дымящийся ЗИЛ тащил тела по домам.
К счастью, первым довезли Зарубина. А может, судья чудом вспомнил, что Зарубин ― гость. Дома Зарубин никогда не принимал больше одного душа в день, но тут ― захотел к воде. После ― он стоял у окна, глядя на вывеску «Овощи-фрукты» магазина напротив. В голове играло пианино, а юная дочь фермера прощалась с невинностью…
Глава 4. Приступает
Утром он поехал на квартиру пропавшего Пескарева. Дворник выдал ему ключи и назвал квартиры жильцов, с которыми Пескарев был дружен. Зарубин поднялся на третий этаж и вошел к Пескареву.
Было очень тихо. Никакие часы никуда не шли. Молчал холодильник. Зарубин единственный, кто нарушал тишину оставленного жилища. Он шагнул в комнату, огляделся…
Сколько он видел таких комнат… Бетон, бетон, бетон и бетон… Окно с деревянной рамой, что зимой бессильна против морозного воздуха… Вытертый палас на паркете… Софа… Сервант… Телевизор… Стол… Шкаф… На софе валяется газета «Спортивная злость» за четвертое июня. «И за это, ― подумал Зарубин, ― человек так держится… В коротенький проблеск между двумя вечностями покупает шкаф… Ждет, когда его привезут… Аккуратненько вешает туда три рубашки… Говорит, о, как же я ждал тебя, шкаф, без тебя и не жизнь была, так ― подобие… А с другой стороны ― что еще делать? Свалиться на пол и орать от ужаса? Да-а… И тут не жизнь, и там не будет… У меня ведь то же самое, только узоры на паласе другие и еще комната с женой имеется…»
Он открыл по очереди ящики серванта: с майками, с нижним бельем, с нитками и пуговицами… Всего было мало, сиротливо мало. Пуговицы покатились ему навстречу в надежде найти пристанище на его пиджаке. Но Зарубин лишь пересчитал их и закрыл ящик. Комната не расщедрилась на зацепки. Зарубин пошел на кухню.
Открыл холодильник. Банка шпрот… Четыре яйца… Израненный ножом кусок масла… «Вся страна ― Пескаревы, ― подумал Зарубин, ― в шкафу, в холодильнике и в голове одно и то же». И вдруг обратил внимание на молоко. Оно было свежее. Зарубин резко повернулся к плите, где стоял чайник, и прикоснулся рукой к его мрачновато-зеленому боку: теплый. Мгновенно выскочили из головы все его новые размышления. Зарубин помолодел, вернулся на двадцать лет назад, когда он розоватым птенцом-лейтенантом впорхнул в отделение. Тогда впереди блистала Цель, манила священная Роль, а МВД раскладывалось не иначе как Мой Второй Дом. Зарубину показалось, что он отбросил несколько килограммов и снова порос нежно-комическими усами.
Взгляд его выстрелил в календарь на стене. Ага! Пятое июня ― подчеркнуто. Зачем Пескарев подчеркнул эту дату? Чтобы не забыть. Элементарно и гениально! «Жаль, тут не Запад, ― подумал Зарубин, ― сейчас бы нашелся коробок спичек из клуба „Шелковый фламинго“, я бы поехал туда, а там ― босс наркокартели, а Пескарев у него на побегушках. Стоп, стоп… Откуда в Концовске шелк…»
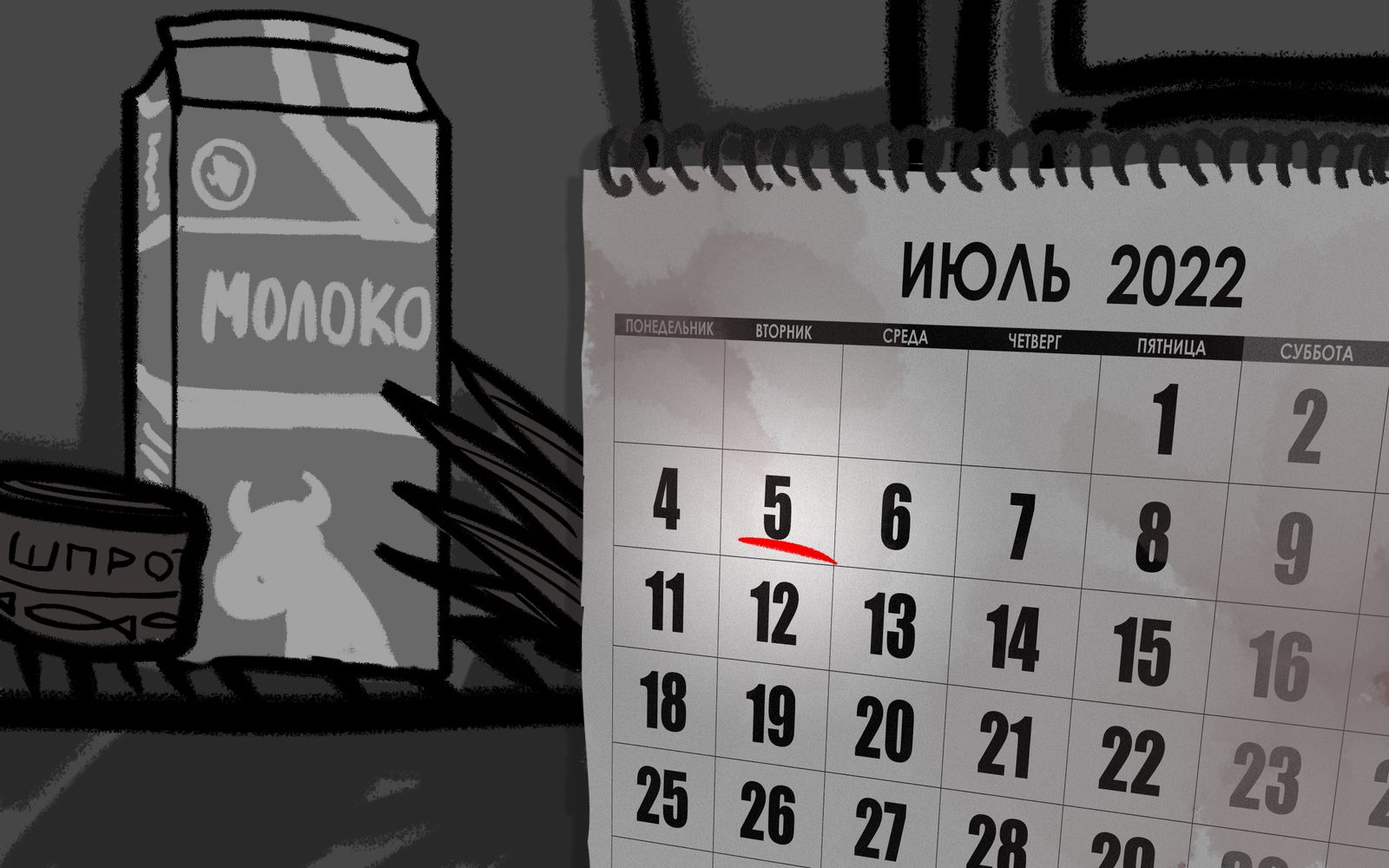
Он снова заглянул в холодильник. Что там за маслом? Пучок зеленого лука… Где-то он сегодня уже слышал этот запах…
― Точно, ― сказал он вслух и бросился из квартиры. Дворник сидел внизу, латая метлу.
― Зачем ты ходишь к Пескареву в квартиру? ― сходу спросил Зарубин. Дворник встал, как в зале суда.
― А, пфф, ну… Своего холодильника-то у меня нету… А это неудобно… Маслице тает, самогонка теплая… Я вот и хожу к Савелию-то… Пока его нет…
― Откуда у тебя ключи от его квартиры?
― Так у меня… это… от всех квартир… Трубы старые, ровесники дому нашему, каждый месяц кто-то кого-то топит. Сам того не желая, естественное дело. Ну и я проникаю в квартиры, предотвращаю, как могу…
― И там тоже храните лук с маслом?
― Ну… Только если кого нет: в отпуск уехал или в командировку. Вот у меня в блокнотике расписано на месяц, кто, когда и где. Пескарев вот видишь ― под вопросом. Это значит: днем можно ходить, утром-вечером ― нельзя. А что ― никто не жаловался. Я раз в двадцать шестой квартире мерзавчик забыл в холодильнике. Так ничего ― промолчали. Выпили, наверное, сволочи. Вот жду, когда их топить начнет, ни за что не полезу к ним, скажу: потерял ключ.
― Что ж ты делаешь, когда никто не в отпуске?
― Такое редко случается, всегда кто-нибудь в отлучке. А нет, ну что ж, теплая она ж тоже самогонка.
― Ты не знаешь, почему у Пескарева пятое июня в календаре подчеркнуто?
― Не могу знать, не интересовался. Меня исключительно холодильник тревожит. Зашел, открыл, положил, вынул. Календари для меня ― бумага сорная.
Зарубин пошел по квартирам. Фитиль, подожженный в нем кухонными находками, медленно угасал. Неохотно обходил он квартиры, точно предчувствуя бесполезность этого звена расследования. Кому-то Пескарев помогал подать заявление в суд, кто-то бесконечно одалживал ему соль и морковь… И все, как один, в последний раз видели его четвертого числа. Значит, не зря Пескарев ― или кто-то другой ― подчеркнул злосчастную пятерку.
Его мысли потянулись обратно. Он шел в столовую и вспоминал сестер-близнецов из квартиры напротив пескаревской. Немолодые уже женщины, они жили вместе, одинаково одевались, идентично обводили губы красной помадой, пили чай, поднося щербатые кружки ко рту зеркальным жестом. Каково им было ― иметь точную копию себя? Неужели с детства не осточертел им человек, отражением скользящий рядом? А что если был в их жизни момент, когда пошли они в разные магазины, но вернулись с той же одеждой и поняли, что обречены? Что доведись одной карабкаться на яблоню, вторая неминуемо полезет с другой стороны ствола… «Как они ищут мужей? ― спрашивал себя Зарубин. ― Наверняка непохожие люди пугают их. Я ушел, а они кинулись протирать спиртом стул, на котором я сидел… Все должно быть одинаковое, знакомое…»
В столовой ему снова захотелось выпить, тем более, что многие вокруг не стеснялись своих желаний и пили.
После обеда он решил проверить одну гипотезу и отправился на вокзал. Он предъявил удостоверение и спросил кассиршу, кто дежурил пятого июня.
― Да я и дежурила. Я всегда дежурю. Кроме тех дней, когда не я.
Зарубин показал фотографию.
― Вы видели этого человека?
― Савку? Это ж Савка Пескарев. Видела, конечно, на юг он поехал. Морда бледная, белобрюкий такой! Явно ― отдыхать.
― Вы его знаете?
Кассирша расплела цепочку из десяти или двенадцати родственных связей: на конце чьим-то там сыном болтался Пескарев.
― Можно позвонить от вас?
Зарубин набрал номер судьи. Тот пил третье холодное пиво, лежа на диване. Зарубин сообщил о добытых сведениях.
― Кассирша? На вокзале? Скажите ей, чтобы после работы срочно зашла ко мне. Я ей устрою очную вставку! Будут ей еще Пескаревы мерещиться.
Казалось, судья разозлился.
Зарубин передал кассирше просьбу судьи и пошел в гостиницу. Вечером судья позвонил ему и сказал, что кассирша ошиблась. Никакого Пескарева она не видела. Кто-то очень похожий поехал на юг вместо него.
Перед сном Зарубин снова смотрел на вывеску «Овощи-фрукты» и видел, как закусывает водку густо посоленным огурцом. Спалось ему откровенно плохо.
В четверг он встретился со следователем, которому передали дело Пескарева. Оказалось, что это Толик Клюквин: Зарубин знал его по Ленинграду, но несколько лет уже не встречал.
― Ого, ты откуда здесь?
― Да вот, ― ответил Толик, ― как-то не заладилось там, я и уехал сюда.
― А здесь ладится?
― Тоже не очень: друзей не завел, жена ушла, ни к какой компании толком примкнуть не могу. Пихают мне какие-то дела нелепые, вроде этого Пескарева. Тюфяк какой-то. Пропал, и никто не ищет. У него мать в деревне, километров тыщу отсюда, разыскал ее, спрашиваю, не у вас. А она мне: сыночка, как ты там? То ли с ума совсем сползла, то ли на почте телефон хреновый. Так ничего не добился от нее. Идиотская семейка, хуже не придумаешь. Слушай, а пойдем выпьем?
Зарубину вспомнились слова жены: «Всегда хочется, чтобы кто-то пил больше тебя, тогда как-то спокойнее…» Неудачнику Клюквину тоже хотелось найти кого-то, чья жизнь складывалась похуже его, и он вцепился в семью Пескаревых. Как цеплялся, наверное, за каждый похожий случай.
― Ты же на работе, ― ответил он.
― А-а, толку-то? Тут ни хрена не происходит. Пришел, посидел, пошел домой, пришел, отдежурил, пошел домой.
― Не могу, ― соврал Зарубин, ― мне еще свидетелей опрашивать.
― Свидетелей чего? ― удивился Клюквин. ― Говорю же: движения ноль! Вакуум повсеместный.
― Ты лучше расскажи, что интересного нашел у него на рабочем месте?
― Да ничего, ничего. ― Клюквин даже повысил голос, словно очень хотел отыскать хоть что-нибудь. ― Никакой зацепки. Алкаш бы пропал ― хоть в гастрономе можно о нем поспрашивать. Теннисист ― понятно. А тут ― целый судебный секретарь ― и как пакет дырявый: вся содержимая вытекла. На бильярде не играл. В пивных не замечен. Как будто вовсе не было его никогда. Но знаешь, что самое страшное?
― Что?
― Что он-то был! Ходил куда-то. Что-то ел. Но кому он мог понадобиться ― вообще не понятно. Как в канализационный люк провалился и помер.
― А если правда…
― Да ну, ты чего?! Он толстый был. Его бы НЛО не увезло. Так мне судья сказал, когда я про люк придумал. Короче, Егор, глухарь это, точно говорю. Зачем только они тебя вызывали из Ленинграда… Еще раз спрошу: не хочешь выпить?
Зарубин поблагодарил и отказался. Он вышел от Клюквина с едва брезжущим чувством недоумения. Он решил пройтись до вокзала и еще раз поговорить с кассиршей. И чем ближе к вокзалу, тем крепче становилось недоумение, тем больше оттенков приобретало оно: тревоги, растерянности…
Действительно, Клюквин верно подметил: зачем было тащить сюда Зарубина? Пропал, по сути, никому не нужный человек. На его должность хоть завтра нашелся бы следующий, а то и пятеро. Неужели в исчезновении судебного секретаря есть что-то такое, ради чего человек из Ленинграда едет в Концовск в бессрочную командировку?
В кассе дежурила та же женщина. Увидев Зарубина, она вытянула голову сквозь окошко и закричала:
― Ошиблась, ошиблась, прости, Господи!
Зарубин ушел.
Окончательно задумавшись, он сел в автобус. Подготовленное тысячами пассажиров кожаное сиденье мягко обняло его снизу. Ему не хотелось ничего. Ни волочить на себе это глупое расследование, живущее отдельно от него, ни ехать в автобусе. Вернуться в Ленинград? Безразлично. «Когда же пройдет эта ангедония? ― подумал Зарубин. ― Что ж теперь ― всю жизнь мучиться? Врач говорил, на год… Это триста шестьдесят пять дней вот этих мыслей? Этого беспощадного отсутствия всего? Хуже карцера… Надо чем-то постоянно заниматься, чтобы скорее сплавить этот год… Удастся покончить со всем раньше ― хорошо. Нет… страшно и думать об этом…» За окном, принадлежащим более автобусу, нежели зарубинскому взору, ползли дома и граждане.
Вошли двое молодых людей и сели перед Зарубиным. Словно старуха, которая слышит лишь то, что пленяет ее заледенелую кровушку, Зарубин пропустил часть их разговора, но, когда потребовалось, насторожился и замер. Они говорили совсем открыто.
― Еще три штуки вчера привезли, ― сказал один.
― Они уже у тебя?
― Да. «Отцы и девы», «Пэгги по прозвищу Пропасть» и еще одна… Забыл. Сейчас приедем, посмотрим, надо уже начать набрасывать.
― Слушай, а тебе не надоело еще?
― Что?
― Ну, встречаться с продавцом, смотреть, придумывать… Зачем мы придумываем? Можно же просто говорить: он подошел к ней, достал, повалил, вставил, ушел…
― Заказ такой был. Чтоб не просто так, а вроде истории. Там, как я понял, люди культурные слушают.
― Здесь ― культурные?
― Ну, я не разбирался. Они меня нашли: ты институт радиовещания закончил? Я. Можешь так и так? Могу. Ну, дальше ты в курсе.
― Да в курсе, в курсе.
Второй задумался, а потом усмехнулся:
― «Вечерний Концовск». Вот это запись была бы в трудовой.
Они пошли к выходу. Зарубин встал у другой двери.
― «Бассейн памяти Дзержинского», ― объявил водитель. Трое вышли. Зарубин останавливался у киоска «Концпечати», завязывал шнурок, но вскоре бросил прятаться: радиолюбители шли, не оборачиваясь. Они пересекли детскую площадку, спустились по лестнице и вошли в подъезд. Зарубин выждал пять секунд и последовал за ними. Двери лифта как раз закрывались. Зарубин стал, не спеша, подниматься. Лифт с тоскливым звуком поднимался тоже, опережая его на этаж-полтора. Зарубин вдруг заметил, что он запоминает все, чего касается его взгляд… Серые грязные перила, многообещающие сведения о Ларисе из шестьдесят третьей квартиры, банка с окурками, полумертвый детский велосипед, облезлость стены… Снова нырнул он в молодость, с которой, вроде как, давно было покончено. «Что у них тут творится с людьми, ― подумал он, ― то откровения толпой в голову лезут, а то молодеешь? Как они сами тут живут?»
Лифт остановился, Зарубин спокойно поднимался. Он услышал, как открылась дверь. И закрылась. Он понял, с какой стороны была квартира. Но там их было две. Зарубин оглядел двери. Ну, конечно, они вошли в ту, что левее. Вторая дверь ― железная, она закрылась бы громко. Зарубин же слышал деликатный звук, только сталь замка на секунду вмешалась в эту деревянно-дерматиновую компанию.
Он поднялся на один пролет, встал у мусоропровода и закурил. Своя банка с окурками стояла и тут, набитая гораздо сильнее, чем на третьем этаже. «Дом его ― полная чаша», ― вспомнил Зарубин, глядя на банку. Он докурил сигарету и минут через пять приступил к следующей.
― Так, вошли ― минута, помыли руки ― минута, сделали чай, нарезали батон с сыром ― минут десять, если есть заварка. Если делать свежий, то пятнадцать, ― бормотал он. ― Значит, еще столько же…
С седьмого этажа спустился мужчина ― вынести мусор.
― К Лариске, что ли, в шестьдесят третью? ― спросил он.
― Ага. ― Зарубин кивнул. ― Она сегодня… принимает, не знаете?
― Да она каждый день принимает. Ты в первый раз, что ли?
― Нет-нет, я несколько лет назад был, потом уехал в другой город. Вот ― проездом, решил зайти.
― О-о… Разочаруешься.
― Почему?
― Да, там у нее все так раскурочено уже, никаких рамок… Полчаса пройдет, пока хоть к чему-то приладишься… Как гном в тазу… Я уж и не хожу: год, наверное. Бесполезно. Зубы с кудрями были: еще ходил… Слушай, если хочешь, открою тебе рыбное место: сходи на Комсомольскую, дом восемнадцать, двадцать девятая квартира. Там Раиса. Вот у нее все в порядке: грелка с кипятком.
― Спасибо, схожу.
― Поторопись только, а то, если на несколько лет опять пропадешь, то как с Лариской будет.
― Спасибо. Сейчас докурю, с Лариской попрощаюсь…
― Да ты что, она только начала: у нее двое сейчас. Мне через стенку слышно. Они еще только обсуждают.
― Ну, ладно… Передавайте ей привет.
― А от кого передавать-то?
― От Егора из Ленинграда. Она поймет.
Пришлось спускаться: мужчина занялся мусором и никак не уходил. Зарубин постоял у подъезда, докурил и поднялся на лифте на шестой этаж. Подошел к счетчику. Сосчитал до пяти и выкрутил предохранители. И тут же ― встал у двери. Глазка не было, и обнаружить Зарубина изнутри не представлялось возможным.
Радиолюбители соображали не быстро. Дверь открылась минуты через три. Зарубин плечом протиснулся в квартиру так, как протискивался много лет назад.
― Милиция, ― сказал и показал он. Квартиру парализовала паническая тишина. Движение исходило только от Зарубина. Он быстро подошел к видеомагнитофону, открыл «шторку» и заглянул в его чрево. Кассета была там.
― Иди, вкручивай. ― Он отдал предохранители парню. ― Сбежишь, этот сядет.
Зарубин осмотрелся: книжный шкаф с кассетами, табурет с ломтями батона и тоненькими кусочками сыра. Неуместно пузатая сахарница. Чай. Портативная радиостанция.
Он набрал номер отделения:
― Алло, Клюквина, позовите… Толя, привет, это Зарубин. Есть подарок для тебя… Приезжай.
Он дождался Клюквина, передал ему подавленных дикторов «Вечернего Концовска», нашел в шкафу нужную кассету и поехал к судье.
― Ну, как идет? ― спросил судья.
― Пока пусто. Завтра хочу близлежащие магазины обежать, учреждения. Там поспрашиваю. Может, он в рыболовном магазине новую удочку купил. Или пшена для прикормки.
― Пескарев? Да ни в жизнь.
― Ну… Все-таки… Обегу. И еще… Федор Карпович…
― Да.
― Нашел я ваш «Вечерний Концовск».
― Нашли? ― спросил судья. Он полез за платком, а от ладони, на кожаной обивке стола, остался влажный отпечаток.
― Нашел. Сидят два пацана, смотрят кассету, а ко вторнику готовят постановки свои. У них там целый шкаф забит кассетами, тетрадями. Смотрите.
И Зарубин положил перед судьей «Русалку из каменных джунглей», которой они наслаждались позавчера.
― Русалка из… Ага… Она…
Судья встал и закрыл дверь кабинета.
― Егор Силантьевич, ― сказал он и, не дожидаясь ответа, продолжил, ― видите ли, какая штука… Штука… Э-э-э… Это прекрасно, что вы ее нашли… Только… Как бы… О них все знают.
― Как это?
― Не расстраивайтесь. Вы отлично сработали. Просто… Мы так подумали… Ну все равно же смотрят, ищут, находят, обмениваются… А тут ― все под контролем… Плюс, не забывайте, какой азарт. Все же считают, что это кошмар, страх, нарушение! Но в восемь вечера во вторник как по расписанию тянутся к приемникам. А потом обсуждают тайком в пивных, в перерыв на работе. И уже не так охотно ищут и обмениваются…
― То есть, все кругом знают, что эти два парня сидят там и…
― Нет-нет, что вы. Знаю только я и несколько человек из нашей позавчерашней компании. Ну и милиция, конечно.
― Федор Карпович, а зачем…
― Понимаете… Стало слишком много вольности. Нельзя просто так взять и раздать ее людям. За какие-то крохотные яички ―, но холодной рукой ― мы должны их крепко держать. Это Александр Андреевич, наш андролог, придумал.
― Федор Карпович, я многое видел по работе… Все понимаю… Но вы же строите на нарушении закона.
― А на чем строить, Егор Силантьевич? На спортплощадках и кружках ИЗО? Так они спирт пьют на этих площадках. Вон один у нас занимался. Пробежки совершал. А после пробежек ― турники-брусья. Сняли с брусьев и башку проломили. Мешал алиготе употреблять. Знаете, что сказали, когда приехал наряд? «А хер ли он поблизости ногой машет?» Вот и получается…
Судья не объяснил, что, но Зарубин все понял по его жесту.
― Давайте, Егор Силантьевич, сосредоточимся с вами на Пескареве. Очень уж надо найти его. А на это (он постучал по кассете пальцем) давайте, по возможности, закроем глаза.
Зарубин попрощался и вышел, чувствуя себя идиотом, слишком часто закрывающим глаза на творящееся вокруг. Судья снял трубку и набрал номер.
― Алё, Глеб Степаныч, дорогой, добрый день. Глеб Степаныч, ну, что, второй раз как будто мимо. Клюквин был совсем дурачок, ему не то что в начальники, ему в цирке бы места не выделили… А этот… Ну ведь просто невозможно… Шустрый, натворил дел за два дня… Кассиршу на вокзале нашел, которую мы вообще не учитывали… Радиостанцию нашу развалил… почти… Да-да, «Вечерний Концовск»… Завтра гастрономы пойдет «обегать», представляешь, его слово, да. Глеб Степаныч, я все понимаю… Ну и что, что зашитый, что ж ― настолько поменялся, что ли? Что я ― зашитых не видел… Да не хочет он, отказывается, воды, говорит, дайте. Что? Бабу подложить? Глеб Степаныч… Шутишь? Кому она нужна ― без водки?.. Отвлечь? Как отвлечь? А… Ну, можно попробовать…
Зарубин тоже говорил по телефону этим вечером: звонил домой. Жена жаловалась:
― Все сломалось за три дня, как ты уехал. Пылесос сломался, каблук отвалился на туфлях моих коричневых, зуб откололся, холодильник сломался на работе: обеды хранить негде…
Зарубин слушал. Действительно сломалось все. И он шел среди растущих гор хлама, среди крохотных угодливо скрюченных людей, которые горячо верили, что хлам этот еще расправится и расцветет, заблестит и пригодится… и понимал, что он тут не лишний.
Они договорили с женой. Зарубин сел ― досмотреть новости. Восемнадцать миллионов советских семей получили бесплатное жилье, что заставило некоторые из них улыбнуться. «Я верю», ― говорили счастливые жильцы, отвечая на вопрос журналиста, верят ли они. Телефон снова зазвонил. Зарубин нехотя оторвался от экрана. Это был судья. Он сказал, что Карасев очень просил Зарубина зайти завтра часикам к семи на ужин.
Глава 5. Узнает трагедию Карасева
Гастроном возле пескаревского дома зиял пустотой. Горделиво багровел томатный сок, который в лучшие времена багровел бы на складе. Морская капуста страдала от собственной ненужности. Продавщица же явно питалась в продуктовых оазисах Концовска: так жирно и глянцевито выделялась она на фоне тусклой плиточной стены. Зарубин представился и показал ей фото Пескарева.
― Я чё ― всех помнить должна? ― спросила она. Зарубин невольно огляделся: по магазину шатался одинокий старик с авоськой, не содержащей в себе ничего.
― Значит, не помните?
― Ну я ж сказала…
― Я не просто так спрашиваю, человек пропал.
― Ну, может, за свининой в райцентр поехал.
― Его больше двух недель нет.
― Мне бы так.
К разговору начали стекаться другие работники гастронома. Разной степени потрепанности, сгрудились они вокруг зарубинской руки с фотокарточкой. Пришел грузчик, много дней ничего не грузивший.
― О, ― сказал он, ― это ж этот.
― Вы его знаете? ― спросил Зарубин.
― Как сына. ― Грузчик засмеялся. ― Да не, ну какой там ― знаю. Видал.
― Когда в последний раз видели?
― А когда он пропал?
― Две недели назад.
― Ну вот тогда и…
― Что он покупал?
― Сока томатного банку.
― Он не выглядел обеспокоенным или, может быть, подозрительным.
― Конечно, выглядел. Тут все обеспокоенные: в гастрономе один сок. А где колбаса, где масло: тут-то оно и беспокойство!
Зарубин понял, что дальше спрашивать ― никакой пользы. Он пошел в парикмахерскую, где его, как и никого, не ждали. Он не успел потянуться за фотокарточкой Пескарева, как мастер сказала:
― Ц… Прахадить… Садитьсь… Как стрицца будем?
Зарубин сел:
― Модельную, чуть покороче.
― Сзади на «нет»?
― Нет.
― Наклоняйтьсь, голову памоим…
Зарубин наклонился.
― Нармальна вада?
― Да.
При этом она как будто забыла разбавить кипяток холодными струями.
Зарубин с детства побаивался парикмахерского кресла: слишком очевидным казалось его родство со стоматологическим. Да и попробуй заявлять о своих предпочтениях, когда висишь головой в раковину. «Над раковиной же что угодно можно делать… Даже свеклу почистишь, смоешь ― и никаких следов. А у нее еще и ножницы под рукой… Сейчас воткнет мне в шею… В парикмахерской никого… Ну, покричу я что-нибудь во славу жизни: сейчас везде кричат, никто и не кинется спасать меня… А что если… Что если это она убила Пескарева. Он так же пришел, свесил голову в раковину, она спросила про воду, а он ответил, нет, горячо. И она ему ― в шею… Зачем ей это? Кто его поймет, может, она тоже „зашитая“, и не знает, куда нервы девать… Может, это он посоветовал ей „зашиться“? Ну, нет, это уж слишком. Она бы его только за один совет оскопила…»
Зарубин так и не отыскал ключа, отпирающего калитку в непринужденную беседу. Он молча дотерпел до расплаты, отдал полтора рубля и достал уже слегка помятую фотографию Пескарева. Парикмахерша подобралась и скинула вальяжную шаль, которой была укутана до сих пор. Даже грудь ее, большая и разлапистая, как будто стала выше и собраннее.
― А-а, вы из милиции… Что же вы сразу не… Заберите, деньги, заберите…
― Да как же…
― Ничего страшного, у нас кооперативная парикмахерская. Хозяева говорят, с мен… с милиции деньги не брать. К тому же ― я ничего вам сказать не могу. Ходил он сюда раз в месяц, всегда одно и то же просил ― «канадку». И вот ― «Сашей» освежиться.
― Когда в последний раз был?
― Да как раз месяц назад. Со дня на день ждала.
― Значит, уже оброс, ― тихо сказал Зарубин.
― Что?
― Нет, нет, продолжайте.
― Да продолжать-то не о чем. «Здравствуйте — „канадку“? — да, „Сашей“? — спасибо — до свидания». У нас тут мужики знаете какие… Ни один не молчит. А этот тихенький такой. Вот видно, хочет что-то брякнуть, а сдерживается.
― Как вы думаете ― почему?
― Не знаю, может, в детстве доверили пьяному родственнику с ним гулять, а он его из коляски обронил. У меня у сестры такой случай был… Она напилась, а ей доверили… Теперь та девчушка, как этот ваш Пескарев… Ну либо просто интеллигентненький, знаете, такой… только без очков… гаденький… сам котлету жареную жрет, а при этом думает, эх, сейчас бы кого-нибудь защитить…
― Вообще, он в суде работает.
― Ну, видите!
На почте Зарубин совсем ничего не добился, примерно, как Клюквин в милиции. Пескареву никто не писал, скорее всего, просто не имея такого намерения. А прочие связи Пескарев, очевидно, доверял телефону. Зарубин вышел из почтового отделения и бесцельно пошел по городу. Начался сильный ливень, но Зарубин, поверивший утром прогнозу, имел при себе зонт. С визгом рассыпались дети, старушки, прикрывшись газетой, проявляли неожиданную прыть, а он все «плыл» вперед. Давно промокли ноги, к ним присоединились брюки, но внутри Зарубин был сух и рассудителен. Он заходил в магазины, съел эскимо в цитрусовой глазури, но не заметил ничего из посещенного или съеденного. Наконец, дождь кончился, а Зарубин очутился у городского рынка, сам не понимая: шел ли он сюда специально или его вынесло шумное течение его мыслей. У лотка с огромными розовыми помидорами Зарубина встретил директор рынка.
― Егор Силантьевич, здравствуйте! ― громко сказал он.
― Здравствуйте, ― ответил Зарубин, выныривая на безмысленный риф.
― Федор Карпович сказал, вы сегодня к Карасеву идете. И охота вам?
― Федор Карпович сказал, он очень хотел меня видеть.
― Шут несчастный. Опять кривляться будет. Почетный шут города.
― Я в магазины заходил, ― сказал Зарубин, ― хотел что-нибудь купить к столу, но, как назло, ничего приличного.
Директор рынка обрадовался.
― Это вы правильно придумали. Карасев такими помоями потчует, к нему никто и есть не ходит. Мы думаем, что они с женой после каждой еды на промывание ходят.
― У него и жена?
― Да, такая же идиотка… Я вам сейчас соберу колбаски, овощей, бутылочку дам… Вдруг вам удастся свое поесть, хотя ― сомнительно, он любит пичкать тем, что сам… Фу…
Директор дернулся.Зарубин потянулся за кошельком.
― Ни-ни-ни, ― сказал директор, ― мне за радость: хорошего человека от отравления выручить.
Зарубин вернулся в гостиницу, высушился и к семи часам был у Карасева. Тот жил в последнем доме, представляющем город. Сразу через дорогу начиналась деревня. Или как тут говорили: частный сектор. Зарубин с грустью посмотрел на укроп, весело торчащий из пакета, и позвонил. Карасев выскочил из-за двери, как тряпичная кукла в уличном театре.
― О-о, синьор Заруббини! Добро пожаловать в мой маленький балаганчик!
Зарубин поспешил войти: Карасев кричал на весь подъезд. В квартире удушливо пахло вязким тестом, из которого не родилось пирога. На Карасеве был ярко-красный халат с золотым поясом. Пока Зарубин снимал ботинки, Карасев скакал вокруг него, вереща:
― Как добрались? Легко нашли? Под дождик попали сегодня? А-а, вижу, что попали. А я вчера звоню Федор Карпычу, говорю, как оно, знаете, протекает важе жизнесуществование, Федор Карпыч? Это я ему так говорю. А он расшумелся, кричит: ты что, Карасев, дурак, что ли? А я ему: да вы ж знаете, дурак, чего лишний раз напоминать?! Он кричит: ничего хорошего, Карасев, видишь, Пескарева найти не можем, дела стоят! Сыщик наш ленинградский, это Федор Карпыч продолжает, пока ничего найти не может! И тут меня как молнией вздерябнуло: а правда! Вы ведь пока не разыскали ничего! Значит, вечерами грустите: как бы что найти! Дай-ка, думаю, я вас повеселю! И предлагаю Федор Карпычу: Федор Карпыч, предложение есть! А что вдруг нам нашего сыщика не развеселить хоть на вечер. Может, и расследование поживее покатится! Он подумал, кричит уже не так сильно: значит, по сердцу предложение пришлось. Пригласи, говорит, пригласи. И вот вы где, спрашивается? Здесь! А что это: укроп, колбаса?.. Мне? Да вы с ума сошли, дорогой мой! Мы с женой столько всего наготовили и еще наготовим, что это девать некуда. Поклянитесь, что заберете! Нет, поклянитесь!
Жена его держалась рядом. Ей удалось лишь поздороваться. В остальном она стояла с извиняющимся лицом, сложив руки на переднике.
― На кухню, на кухоньку, ― напевал Карасев, ― я там постелил! Ой, постелил! Накрыл! Ничего же? По-простому, по-простенькому!
Он схватил огромную кастрюлю неприятной наружности и бухнул ее посреди стола.
― Садитесь-присаживайтесь, Егор Силантич… Ой, наверное, милиции нельзя так предлагать! Тогда… ммм… располагайтесь! Вот, точно! Сейчас окрошечку буду резать! Юля! Юлечка! Принеси мясо с балкона! Охлаждаю, ― объяснил он.
Зарубин сел, надеясь, что пулеметные речи пройдут над головой. Но Карасев каждый раз наклонялся, чтобы выпалить следующую очередь ему в лицо. Зарубин отчетливо разглядел его… Румяные, словно напомаженные щеки, подвижные уголки рта, готовые в любую секунду вскарабкаться вверх по лицу, горбатый изящный нос и морщины, морщины… Жена принесла мясо: отталкивающий гигантский кусок жира с мясными прожилками. Карасев сдернул доску с крючка на стене, обеспечил себя ножом и стал с опасной скоростью нарезать зеленый лук, огурец, вареный картофель, яйца… Кастрюля наполнялась быстро, как по приказу фокусника.
― Промыть! ― выкрикнул Карасев и подставил кастрюлю под кран. Полилась вода, Карасев засунул руку в кастрюлю и запустил в ней карусель из содержимого. Прикрыл крышкой и слил грязно-желтковую воду. «Неужели он резал немытые овощи, ― подумал Зарубин, еще раз взглянул на Карасева и ответил сам себе: ― да».
― Я на бульончике делаю окрошку, ― сообщил Карасев, ― так пожирнее, посытнее.
Он достал из холодильника следующую кастрюлю, поменьше, и вылил мутный бульон в первую.
― Сметанки, сметанки! Эх, ей бы еще настояться! Но не будем же мы с вами до завтра ждать. Хотя, если пожелаете…
― Нет, нет. ― сказал Зарубин, ― давайте уж сегодня… сейчас.
Карасев засмеялся.
Он разлил окрошку алюминиевым ковшом. Зарубин подумал, что таким можно доставать трупы со дна Невы.
― Ну, пробуйте!
― А что ж, ваша жена не составит нам компанию?
― Да зачем ей наши мужские разговоры, правда же?! Она там, в комнатке, посидит тихонько, как герань.
Зарубин постарался припомнить приятное, но не мог. Жирная, горьковатая, сильно отдающая лавровым листом окрошка была так густа, что горло отказывалось приглашать ее внутрь.
― Ой, мама, ― вскрикнул Карасев, ― ну, голова! Пф, забыл!
От крика Зарубин проглотил окрошку. В детстве бабушка рассказывала ему, как в несытые послевоенные годы она часто жарила деду оладьи из картофельных очисток. Сейчас они представились Зарубину десертом, клубникой в сметане с сахаром. Все, что он ел в жизни, было лучше этой окрошки.
― Забыл, ― повторял Карасев.
Он взял с холодильника старую серую шляпу, заглянул в нее и сказал:
― Ага!
Потом помешал что-то в шляпе и предложил Зарубину:
― Тяните!
― А что это? ― спросил Зарубин.
― А это, мой дорогой друг, мы сейчас с вами решим, какую настоечку вы будете пить!
И он отодвинул штору, за которой стояла дюжина бутылок с красной, зеленой, фиолетовой, прозрачной и оранжевой жидкостью.
― А! Каково? ― воскликнул он. ― Моя гордость. На огурцах, на апельсинах, на клюкве, на сливе, на вишне, на картофеле… Какую? Какую вытянете?
Он резко придвинул шляпу чуть не к глазам Зарубина. Зарубин сделал горлом, еще не забывшим окрошечное изнасилование, неловкий звук.
― Я… Я… не пью.
― Ха-ха-ха, ― засмеялся Карасев, ― простите, Егор Силантьевич, я, наверное, не так выразился, не по-ленинградски! У вас же там отборный жаргон! Конечно, мы не станем пить, чтобы напиться! Ну, что вы! Вам завтра расследовать, мне ― жить. Выпьем две бутылочки и разойдемся до полуночи, гарантирую! Тяните!
― Я совсем не пью, ― грустно сказал Зарубин.
― Ну, бросьте, милый Егор Силантьевич! Как же ― не пью. А как есть-то тогда?
― Прошу прощения, ― сказал Зарубин и замолчал.
― Что, правда, не пьете? ― насмешливо спросил Карасев. Зарубин кивнул. Ему показалось, или Карасев задумался на мгновение. Точно весь его внутренний цирковой шатер вдруг обрушился, погребая клоунов и полудурочных эквилибристов под тяжелой парусиной.
― А чего ж я об этом не знаю? ― спросил он.
― Я говорил Федору Карповичу, он, наверное, забыл. Вы не говорите никому, ладно? Я на том нашем совместном ужине пил воду. Мне дали отдельный графинчик. Я ― «зашитый». Все время трезвый…
Карасев посмотрел на Зарубина и встал.
― Юля, Юленька, ― крикнул он. ― Принеси нам грибочков. Я совсем забыл. А дома ― ни баночки. А Егор Силантьевич таких и не пробовал! Кто еще боровички солит, кроме нас с тобой…
― Петруша, это ж в деревню идти…
― Ну я прошу тебя! Сделай для меня!
Жена выключила телевизор. Слышно было, как она вздыхает. Карасев снова раскричался:
― Грибочки, грибочки…
― Ох, Петя, Петенька, ― говорила жена. Карасев подал ей сумку.
― Юля, Юленька, спасибо! ― крикнул он в подъезд и захлопнул дверь. Вернулся на кухню и сел перед Зарубиным.
― Ушла, ― сказал он, ― у нас тут еще дом в частном секторе. Там погреб. Полчаса ее не будет.
Зарубин вздрогнул: Карасев говорил совершенно обычным голосом. Зарубин оторвался от окрошки и посмотрел на него. Что произошло? Куда пропал румянец с карасевских щек? Почему исчезли шутовские ужимки? Почему холопская просительная гримаса сменилась бесконечно усталым выражением лица?
― Я тоже не пью, ― сказал Карасев, ― и тоже, как вы: совсем.
― Как это? ― спросил Зарубин.
― Очень несложно… Делаю вид.
― Подождите… А на ужине?
― Вода. Как и у вас. Только и я теперь прошу вас: никому! Ни-ко-му! Иначе все пропадом…
― Но зачем вам это нужно? Они же над вами там… ну…
― Издеваются? Да, верно… Они, знаете, не люди… Они ― оскаленная пасть. Без клыков, что еще страшнее. Долго и нехотя будут вас жевать, чавкая и роняя ваши конечности в грязь. А потом выхаркнут ― искалеченного и бесполезного. Потому что где-то там появится новый, еще целенький Карасев. Но пока они пережевывают вас, вы им интересны. Значит, можно поддерживать в вас жизнь…
― Я не понимаю… ― сказал Зарубин.
― Хотите, я вам все расскажу…
― Хочу. ― Этот новый Карасев был намного занимательнее предыдущего.
― Хотите? А, ну да, чего я удивляюсь… Видите, я уже начинаю путаться в своих ролях… Подождите минутку, я вылью эти помои…
Он взял кастрюлю с окрошкой и пошел в туалет.
― На тебе, сука, ― услышал Зарубин слова, потонувшие в шуме воды. ― Что вы там принесли?
Зарубин открыл пакет:
― Вино, колбаса, зелень, овощи, торт.
― Давайте чаю с тортом попьем? А рюмки я налью, пусть стоят.
― А если бы я согласился пить?
― Видите вот похожие бутылки? В одной ― рассол. Я бы отговорил вас от нее, если бы вы ее выбрали. А сам бы взял ее.
Он поставил чайник на огонь. Зарубин никак не верил перемене. За окном собрались тучи. Газ горел ярко, Карасев смотрелся монументально-раздавленным, и Зарубин думал, что полейся сейчас из крана вода, он разорвался бы между тремя зрелищами.
― Когда пойдете домой, ― сказал Карасев, ― там увидите ― голубятня. Зеленая такая, из крашеных листов сварена. Вот я там только ― я. Там, где эти чумные птицы и помет. Вы видели птиц, глупее голубя? На него же будешь идти с топором, а он даже не улетит. Так и будет плестись впереди вприпрыжку. Вот. Снаружи я такой же голубь. А внутри ― человек. Сижу там с термосом и сухарями. Покупными, разумеется.
Он бросил в чайник четыре щепотки чая и залил кипятком. Но газ не выключил, чувствуя, что, подсвечиваемый огнем, его рассказ звучит отчетливее.
― А почему вы… ну, ни с кем не общаетесь?
― А кому я нужен? Жене не нужен, дочери ― тем более. Внука мне не доверяют. Я получаю подачки от судьи и передаю их жене. Судья даст тридцать рублей и со стола сгребу недоеденное. Жена деньги передает дочери, потому что дочь у меня брать стесняется. Вот и весь смысл жизни.
― Что ж вы не «раскроетесь»? Вот как передо мной.
― Кто мне поверит? Скажут, совсем Карасев двинулся. А так хоть в какое-то общество зовут. Шутом, но ― зовут. Меня уж и жена другим не помнит. Я для всех… так…
Он показал большим и указательным пальцем что-то крохотное.
― Я сам не из Концовска, ― сказал Карасев, ― я здесь лет двадцать всего… Тоже, как и вы, жил в столицах. Имел какую-то компанию. Гитары, соцсоревнования ― весь жизненный мусор, короче говоря. Знаете, как порцию сахарной ваты в ведро мочи окунуть… Ярко, но на вкус ― весьма и весьма… Но многие, ничего, едят. И нахваливают. Я сварщиком работал… Видите, голубятню сварил, а остальное так кусками и валяется. И у нас на заводе была одна девушка, тоже сварщица. Как вам объяснить. Не как все. Такая, что никто не может себе позволить. Ее никто в стране тогда, наверное, не мог себе позволить. Ну, то есть, силой можно, но получишь потускневшую монетку. И все у нас на заводе, конечно, мечтали ей обладать. А она ни к кому. И, конечно, сразу после отказа, кто ее раньше воспевал, сразу проклинал. На следующий же день. И высокомерная, и единоличница, и капиталистка даже, хотя при чем тут это… И случился у нас как-то волейбол: завод на завод. А потом ― вечеринка. Она тоже была, естественно. Отшитые ее сторонятся, те, кому еще предстоит, танцуют с ней. Выпили все. И вдруг она ко мне подходит и говорит ― она минут пять говорила, но я уж самую суть: ― Петя, давай уедем отсюда в какую-нибудь глушь, я вижу, ты ― хороший человек, какой мне и нужен. Я знаю, что ты женат и с дочерью, но загсы, к счастью, не только женят… И молчит, и смотрит. Я одурел. Смотрю тоже на нее. Но и как будто через плечо себе поглядываю. А там жена. Дочь. Холодильник в планах… Дружба народов… Конечно, эта девушка мне тоже нравилась. Но я точно знал: не потяну… Уверен был, что не потяну, а рисковать… Холодильник-то тяжелый, попробуй его из мечтаний выкинуть… Только в сказке придурковатому царевичу волк помогает, а мне и подсказать было некому… В общем, отказался. Выбрал «свое». А она погрустнела, извинилась и ушла. И очень скоро уволилась и пропала. Как будто и не существовала никогда. Те, кто ее добивался, сразу воспряли. Переключились на более земных девиц. Пропал главный свидетель их провала. Как будто не в них было дело, а в ней. Через месяц ее забыли: мужчины со злорадством, женщины ― с показательной величавостью. А у меня с того дня все моментально разладилось. На заводе все стали как к преступнику относиться. Жена чужая стала. Дочь как подменили. То папа, папа, а то ― пошел на хрен, дайте маму…
Он разлил чай, положил Зарубину торт. Чай был крепкий, хороший, а торт ― изумительный. Здесь ли полчаса назад кормили отравой под личиной окрошки?
― И квартира стала как будто за что-то мне мстить. Батарею прорвало, люстра закоротила, полсосиски за плиту упало и начало гнить, я думал, тараканы доедят, а они не справились. Ногу еще подвернул, лежал несколько дней, а жена так смотрела… В общем, ткнул я пальцем в карту, сказал, что здесь мне место обещают, собрались и уехали. Ну, а тут ― нищета… Связался с этими… Что тут скажешь… Кости-то у меня целы, это все плоть проклятая: отмирает и отмирает… Кости и через тысячу лет найдут и изучат, а вот что за человек на них был нанизан, уже никогда не откроется…
Зарубин молчал. Он уже и забыл идиота, которым притворялся Карасев.
― Послушайте, ― вспомнил он, ―, а вот Пескарев… Вы что-нибудь знаете о нем?
― Ничего. Они же мне ничего не объясняют. Знаю только, что пропал.
― Не могу понять, ― признался Зарубин, ― зачем я им понадобился. Что-то тут не то. Никто его не видел. Хожу по городу, ничего не могу узнать.
― А вы поддайтесь им, они вам все сами и выложат.
― Как это?
― Ну, сыграйте так, как они хотят. Они тут, знаете, не гении подобрались. В голове вместо мозгов ― дубинки. Их насквозь и обратно продырявить можно ― четверти взгляда хватит.
― А вы не боитесь, что они вас разгадают? ― спросил Зарубин. В эту секунду в замочную скважину проник ключ. Карасев улыбнулся ― улыбкой мангуста, одолевшего кобру:
― Хуй у них что срастется!
И в одно мгновение превратился в потасканного шута. Искривил губы, уронил голову не плечо, вскочил со стула, суетясь и переставляя посуду, закурил. Жена вошла на кухню, поставила банку грибов на стол. Карасев не умолкал:
― Шницелята, шницелята, ах, какие получились! Зажаристые! А я вам говорю, Егор Силантьич, пока все росли ночью, я рос исключительно днем! Ну, вот такой божий замысел, что ж я ― против него попру? Не-ет! И видите, какой вымахал… О, грибочки Юленька принесла… А мы, представляешь, всю окрошку съели! Егор Силантьич съел три тарелочки и говорит: обожрался. А я ему: ну-у, такой молодой, а уже обожрался? Не верю! И докончили ее, проедставляешь! И торт начали! Така-а-ая га-а-адость! Из чего их сейчас клепают? Сметана с навозом ― не иначе!
Его жена вымокла. Она отказалась сидеть с ними, взяла в ванной полотенце и вернулась к телевизору. Дверь в комнату она закрыла. Зарубин погостил еще минут пятнадцать, попрощался с идиотской сущностью Карасева и ушел. Он решил пройтись до гостиницы пешком. Между домами он заметил темно-зеленую голубятню и представил, как там, среди помета и тупого монотонного воркования, на низенькой табуреточке ютится совершенно нормальный человек.

Ливень изменил город. Он стал озером. Мутным водоемом, в котором, вместо рыб, сновали сандалии и летние туфельки. Затопило всё, и Зарубин, скорее, плыл в нужную сторону. Он думал о трагедии Карасева и о тысячах подобных ему Карасевых. Ему казалось, что никто и никогда и не бывал собой, разве что ― в тесноте загаженных голубятен, куда никто и никогда не отважится за тобой последовать. «Карасев притворяется паяцем, я ― трезвенником, судья ― судьей, старая толстая шлюха ― директором музея… Нескончаемый парад масок… Хоть одна из них ― настоящая? Хоть кто-то приходит в балетное училище с ящиком трески и говорит: а я грузчик?! И веду себя как они. Сила есть, в кармане ― бутылка, где тут пучок зеленого лука: закусить? Да откуда там?! И балерины его не примут, и он сам явится с запасом знаний о балете, чтобы быть своим… Везде надо быть своим… А чужой ты ― только в голубятне… Вот если Карасев туда с женой заглянет, вот это голуби озвереют…»
В гостинице ему сказали, что звонил судья. Зарубин набрал его номер. Судья, не поинтересовавшись даже, как они провели время с Карасевым, предложил ему новую встречу ― у андролога. Зарубин хотел было отказаться, но вспомнил слова Карасева и согласился.
Глава 6. Посещает андролога
― Александр Андреевич.
― Егор Силантьевич.
Квартира у андролога была шикарная. Зарубин решил, что, помимо работы, вечерами, Александр Андреевич исцеляет более высокопоставленные половые системы.
― Витя, ― крикнул андролог в недра квартиры, ― гости пришли, покажись.
Зарубин ожидал сына или, в конце концов, собаку, но появилась красивая женщина в пестром платье, с укладкой и макияжем. Зарубин посмотрел на андролога.
― Витя — это у нас так, по-семейному, ― объяснил тот, ― Виктория, моя жена.
― Здравствуйте, ― сказала Витя. Полная противоположность карасевской жены, она украшала собой даже такую приличную квартиру. А карасевская ― сливалась с невзрачными обоями. Неожиданно для себя Зарубин поцеловал руку, отметив сапфировый перстень.
«Витя, ― подумал он, ― Витя… Интересно, через сколько минут после знакомства он начал ее так называть? Как будто мужчине не нужна жена, женщина, а нужен друг, облаченный в дамское… Поэтому и становится Виктория Витей, Александра ― Шурой и так до бесконечности… Даже невероятно женственная Анастасия превращается в Стасика… Конечно, с другом-то можно пить, обсуждать любые холмы и впадины… Вот мы и тянемся к мужским модуляциям… В нескончаемой надежде… В нескончаемой вере…»
Собака, впрочем, у Александра Андреевича тоже водилась. Колли Дима лежал в кресле, напоминая пациента, узнавшего печальный диагноз. Слишком воспитанный, чтобы иметь хоть какую-то частную собачью жизнь, Дима грациозно предложил лапу и удалился обратно в кресло.
― Смотрите, ― сказал андролог, ― узнаете?
Он показывал на фотографию на стене. Мужчина в воинственной позе что-то доказывал из кожаного кресла.
― Мы называем это «Страшный суд».
И только сейчас Зарубин обратил внимание, насколько судья невелик и незначителен, хотя и толст.
Кроме этой фотографии, на стене висели картины. Это были сплошь обнаженные тучные мужчины, однако, обрезанные по пояс. Зарубин точно помнил, что у всех них есть продолжение вниз. Александр Андреевич быстро все объяснил.
― Я так отдыхаю, ― сказал он, ― после рабочего дня. Представляю, что нижней половины у мужчин просто нет.
Витя предложила им садиться.
― Стол-благодарность, ― сказал андролог, показывая на икру, белую рыбу, шампанское и прочие колбасно-алкогольные совершенства, ― ничего не покупаем, все приносят.
Зарубину снова вспомнилось отцовское сало, которым они скромно закусывали водку вдвоем с Плакатовым. Страшно и неудержимо захотелось выпить. Александр Андреевич откупорил шампанское и потянулся к фужеру Зарубина. Время замедлилось. Зарубин вцепился взглядом в изумрудное горлышко. Она засасывало, как ночная картежная игра, как погоня. Вот сейчас ледяная река хлынет в бокал, и он, Зарубин, не посмеет ее остановить… Сабраж, перляж… Забытые слова скалами вставали на скатерти и в теснину между ними Зарубин и стремился проникнуть. Он уже мысленно согласился на всё… Гори адским пламенем эта ампула, ликуй, треклятый дисульфирам… «Две-три минуты блаженства у меня никто не отнимет», ― подумал Зарубин.
― Саша, ― сказала Витя.
― Ах, да, ― сказал андролог, останавливая полет бутылки, ― совсем забыл. Федор Карпыч предупреждал, что вы не пьете.
― А? ― не понял Зарубин. Во рту у него ширились полыхающие Каракумы.
― Ну, что вы на работе не пьете.
Зарубин смотрел в пустой фужер. Наконец, сообразил.
― Да… Я вот лучше «Пиноккио»…
― «Буратино»?
― Да, да.
Витя налила ему лимонаду. Как подло и безнравственно походил он на шампанское!
― Ну, за ваше расследование!
Они выпили. Зарубин закусил кусочком колбасы. Как омерзительна она была после сладкого напитка. Он решил дальше перейти на минералку.
― Как же вы удержались вчера у Карасева? Я слышал, он какие-то настойки делает. Наверняка дрянь, но он же точно совал их вам.
― Да… Он как-то очень быстро напился сам и уже не обращал внимания, кто там что пьет, кто что говорит…
― Свинья, ― сказал андролог и налил себе коньяку, ― у меня завтра выходной.
― Что это такой за Карасев у вас? ― спросила Витя. ― Ничего мне не рассказывает и с собой не берет.
― Да мы собираемся-то… Раз в месяц… Вот Егор Силантьевич приехал, внеочередное собрание было… А Карасев… Так… дурак… Безливрейный лакей…
― Я, может, люблю такое, ― сказала Витя и посмотрела на мужа. Тот наливал коньяк и ничего не заметил.
Зарубин подумал, что несчастный Карасев с удовольствием сел бы за этот стол. Месяцами ждал он встреч концовского кружка да и то не всегда его звали. А если звали, то сажали рядом с картошкой и гадкими пирожками-клошариками, подальше от деликатесов. А здесь ― буженина сменяла белугу и тут же уносилась, изгнанная прочь великолепным гусиным паштетом с брусничным соусом. Странно, но трезвый уже не первую неделю Зарубин, стал ощущать вкусы. Словно взрослеющий ребенок, учащийся понимать не только сладкое и соленое, он тянулся к горькому и кислому и совершенно не противился медовой корочке на запеченной индюшачьей ноге. Однако с некоторой завистью посматривал на андролога, который удочерял одну изящную рюмочку за другой.
Его жена выпила три фужера шампанского и стала еще красивее. Ее глаза заблестели в такт серьгам. Как хорошо Зарубин знал эту искорку женского опьянения. Три бокала ― и перед ним щедрая русская царица, дарующая земли сиюминутному фавориту. Еще семь-восемь порций ― и она нищенкой рыдает у хромовых сапог, моля о прощении то ли их, то ли владельца. Витя пока держалась неплохо. Она усиленно поела и пошла на кухню готовить чай.
Александр Андреевич же вел отдельное застолье. С жемчужной ослепительностью он выпил две трети бутылки коньяка и съел всего понемногу, что при богатстве стола сложилось в переедание. Зарубина мучил один вопрос и, убедившись, что Александр Андреевич в подходящем состоянии, он предъявил его.
― Александр Андреевич, хочу спросить, ― сказал он.
― Да, прошу вас, ― ответил андролог.
― Вот вы работаете… Ну… Смотрите, да? А как вообще появилось такое стремление?
Александр Андреевич закинул руку на спинку стула, расстегнул пуговицу рубашки, чтобы быть еще свободнее.
― Понимаете, ― сказал он, ― это все из юности… Я много читал, ну, что было, разумеется. Увлекался историей. И в одной книге наткнулся на интересный факт. Оказывается, в преддверии больших перемен, исторических катаклизмов поведение женщин как-то провидчески меняется. Они становятся смелее, развязнее, наряды обретают оттенок даже некоей распущенности. Короткие юбки, глубокие декольте, яркая помада, вызывающие танцы… В общем, стриптиз и чарльстон… И я вдруг заинтересовался: а что же мужчины? Если они как ходили в костюмах, так и ходят. Ну, стали брюки уже, стали брюки шире ― чепуха же. И я подумал: а что если они меняются так, что сразу и не заметно.
― Как это? ― спросил Зарубин.
― Не заметно из-за одежды! То есть, изменения происходят, но их никто не видит. И поэтому не может ничего сказать о грядущей катастрофе.
― И вы узнали о чем-то подобном?
― Да! Конечно, не сразу. Я закончил институт, начал работать в этом направлении, но… Ну сколько ты там увидишь в большом городе, когда человек приходит к тебе раз в пять лет, и то ― если повезет, что у него предрасположенность. Мне нужен был маленький городок и почти что частная практика. И пятнадцать лет назад я переехал сюда. Сбылась мечта!
И вот за эти пятнадцать лет… Ох, видели бы вы, какие талмуды у меня лежат в кабинете, сколько ночей и дней даже… А хотите ― поедем сейчас и я вам покажу? А, нет, нельзя, я же выпил…
― Так что вы узнали? ― спросил Зарубин.
― Ха! Узнал, да.
Он наклонился к Зарубину.
― Все изменилось! У мужчин тоже все изменилось! Уверяю вас, еще год-два, и случится ураган.
― Ураган?
― Это фигурально. Случится что-то ужасное… Я видел это… Я понял это…
Он наклонился так, словно собирался страстно поцеловать Зарубина в ухо.
― Они все теперь смотрят налево. И все съежились, как один. Это страх. Это протест, который не покидает границ тела. И от того он еще ужаснее. Еще чуть-чуть, и всё лопнет… Полетят головы и имена…
― Что же будет? ― спросил Зарубин.
― Я думаю, будет…
Но тут вошла Витя с тортом. Она выглядела уже иначе. Наверное, подумал Зарубин, она держала на кухне личную бутылку шампанского.
― Ой, ― сказал Зарубин, ― я вчера такой же торт Карасеву принес.
― Это вам Сергей Филиппыч дал? Директор рынка? Наверное, это самое вкусное было у Карасева?
― Да, ― сказал Зарубин и подумал: «А еще ― чай. И тут уж директор рынка ни при чем».
Им так и не удалось больше заговорить с андрологом о будущем. Витя не вставала из-за стола, а сам Александр Андреевич допивал коньяк, окончательно хороня завтрашний день. Конечно, то была не последняя бутылка в доме.
Они провожали Зарубина вдвоем, тонули в любезностях и приглашениях. Зарубин вышел и ждал у лифта. Он ждал долго и вдруг услышал глухой звук из квартиры андролога. Зарубин сделал шаг к ней. Он услышал пьяный голос.
― Витя, Витенька, ― говорил андролог, почти рыдая.
― Витя, ― отвечала жена, ― стыд! Что ты там опять плел про призвание, про историю, про картины эти твои… Все же понимают, зачем ты пошел туда работать!
― Ну, Витя…
― Встань, господи, встань… Не позорься! Ты когда меня в последний раз моим именем называл? Смотритель членов!
― Витя, я в конце концов мужчина! Я могу и…
― Да какой ты к черту мужчина, тебя даже шрамы не украсят!
Хлыстом щелкнула пощечина. Сердито затопотали наливные женские ноги. Зарубин вспомнил о своих и пошел вниз по лестнице. Он едва спустился на пролет, как приехал лифт, но Зарубин уже не стал возвращаться, и лифт стоял совершенно пустой ― зачем только тащился на девятый этаж и распахивал двери…
В одной из комнат нескончаемого люкса Зарубин приметил маленькую багровую птичку. Надрываясь и раздирая беззубые челюсти, она орала что-то птичье. Зарубин совсем не знал птиц и, вполне возможно, она просто искала знакомства или пела песенку про малиновые косточки, которых сегодня наклевалась. Но ему стало не по себе. Окно в Концовск было прорублено только в его комнате, и Зарубин погнал птицу к нему. Напрасно пытался он взывать к ее разуму: птица вела себя как последняя муха. Наконец он просто сел на кровать, и птица, вереща, вылетела в открытую форточку, хотя рядом предлагало себя целое окно.
Глава 7. Попадает в ловушку
Наутро Зарубин угодил в паучью сеть, сотканную из идиотских мероприятий. Он полностью отдался этим волнам, рассчитывая получить ответы. Но ответов ему почти никто не давал. Больше того, все, как будто, с радостью забыли об исчезновении Пескарева, как о ненужной подробности, мешающей настоящему разговору. Зарубину, как перекормленному ревизору, показывали Концовск и его окрестности и говорили «успеется», если он напоминал, зачем он здесь. Однако он все же располагал неким планом и крохи сведений отщипнуть сумел. Смотрелся он так, словно этим вполне удовлетворился.
Сначала его повезли на фарфоровое производство, где делали те самые чашечки, одна из которых развалилась в первое застолье. С ним отправили Камбалаева. Наверное, самого чуждого фарфору человека. Разговор о Пескареве не сложился сразу. Еще и мотор выделенной им машины словно готовился испражняться деталями и перекрикивать его было трудновато.
― Алинур Алинурович, ― кричал Зарубин, ― вы военный, я милиционер… Мы любим четкие факты. Скажите, как по-вашему… Куда девался Пескарев?
― Не могу знать, ― отвечал Камбалаев, ― я с ним дела не имел. А если б имел, он бы у меня по-другому выглядел. А то ― какая-то репа сорта «Жир-Трест». Ни на одной койке не поместится. Пропал ― и черт с ним! Неужели вас за этим из Ленинграда пригнали, чтобы его искать?
Зарубин вместо ответа развел руками.
― Ну, не знаю, не знаю… Вообще, не пойму, чего они так в него вцепились, вместо него памятник посади, не хуже будет.
Зарубин задумался, а Камбалаев переключился на более сокровенные материи: подлодки, инструкции. Потом он «задраил» шторку на окне и задремал. А зарубинские мысли опять зароились в голове, пытаясь протиснуться сквозь шум двигателя.
«Стоит ли всплывать, ― думал он, ― обладая такой роскошью, как подлодка? У них же бывают походы на полгода и больше. Конечно, о свежих огурцах через месяц уже нечего и думать, но какое, наверное, счастье: шататься одному по этим отсекам, тушить тренировочные пожары, зная, что самое страшное пламя разгорается наверху. Вроде за тысячи лет можно было отточить все пожарные навыки, но нет… Чем больше людей, тем яростнее костер… Каждый хочет что-то подкинуть, а то получается, что и не участвовал… Есть же газовые плиты, печи, камины, в конце концов: сиди и наблюдай свое индивидуальное пламя… Нет, обязательно надо „скинуться“ и сделать общее… И еще желательно что-нибудь сжечь, вроде Карасева… Как это меня от подводных лодок бросило в костры… Ну, а что тут сделаешь: вода и огонь… Одно целое…»
Он усмехнулся, и проснулся Камбалаев.
― Поднимаемся? ― спросил он.
Деревенька была нищая, грязная. Только кузница светилась, как бриллиантовая. Кузнец Кузя мало соответствовал имени. Двухметровый, с бицепсом американского культуриста и лицом юной овчарки, он легко управлялся с блестящей огромной кувалдой. В кузнице хозяйничал дым, бесновались искры. Кузя лупил по наковальне. Напротив него дрожал дряхлый старичок, ожидая сигнала. Когда Кузя орал «давай», старичок ловко, обжигаясь и крича, формировал из раскуроченной глины изящную чашечку. В это время компания старушек пыталась приблизиться к Кузе, стрекоча.
― Кузя, а лошадку-то, лошадку подкуешь? Лариску-то! С марта обещаешь!
― Кузенька, а чугунок-то мне поправишь?
― Кузечка, замок…
― Кузьма, ключики…
Когда старушечий щебет забирался на особенно пронзительные высоты, Кузя поворачивался и грозно говорил:
― Некогда мне! Сервиз я задумал! Сервиз! Видите, супницу кую!

Зарубин и Камбалаев стояли подальше от старух.
― Кузя он, ― объяснял Камбалаев, ― потому что кузнец. Тут все так. Почтальон ― Потя, фельдшер ― Федя. А на самом деле они все Сереги. Тут постоялый двор был: Серегино. А потом до деревеньки разросся. Ну и они для удобства всех мужиков Серегами называли, а баб ― Ларисками.
― Действительно, удобно, ― ответил Зарубин.
Кузнец закончил работу и подошел к ним.
― Вот, товарищ с Ленинграда, ― сказал Камбалаев, ― специально приехал, посмотреть, как ты работаешь.
«Ага, специально, ― подумал Зарубин, ― поехал бы я сюда, если бы не ваш Пескарев». Кузя засмеялся:
― О-хо-хо! Куда слава про нас дошла! До самого Ленинграда!
― Ну, расскажи, расскажи про свой фарфор, ― сказал Камбалаев и отошел в сторону ― курить.
Кузя отвел Зарубина подальше от старух, словно те давно и остервенело конкурировали с ним на фарфоровом поприще.
― Понимаете, ― сказал он, ― этот наш промысел тут с незапамятных времен. Раньше Китая, ― шепнул он.
― Как раньше? Ведь постоялый двор-то…
― Ну, двор двором, а промысел сам по себе… И потом в Китае ― что в Китае… Конечно, у них там каолин, печи специальные, температура… А у нас какой каолин? Правильно ― никакого. Да и зачем каолин, когда есть русская глина?! Я из нее что хочешь могу изваять! Вот беру обычный кусок глины, задумываю блюдце или чайник, зову вон Селиверстыча, становимся с ним в кузнице и ― поехали: херак-херак, херак-херак… Глина до нужной температуры под молотом разогревается, Селиверстыч ее хватает, смотрит на чертеж и формирует. Руками! Где уж там китайцу это понять! Сроду мы впереди были. Так мой отец работал, прадед. Дед только увильнул: всю жизнь хлеб сажал. Но его и власть быстро с зоной объединила. Видать, худой человек был. У нас тут даже поговорка есть: не хвали льняну рубашку, а хвали фарфорову чашку! Вот! Я додумался…
Потом Кузя мучительно-детально показывал «чертежи», на которых деталей-то и не было. Старухи ревниво гнездились рядом.
Назад ехали дольше: шофер решил срезать и засел в колдобине. Камбалаев, весь перепачканный, сказал:
― Уж теперь, наверное, Егор Силантьич, музей на завтра перенесем.
― Ни в коем случае. Эмма Дмитриевна же нас ждет. Я же обещал. Приедем, почистимся ― и в музей.
― Как скажете, ― ответил Камбалаев и глуповато переглянулся с самим собой.
― О-о, а я вас уже и не ждала, ― сказала Эмма Дмитриевна, улыбаясь не менее глупо, чем Камбалаев три часа назад.
― Вот ― Егор Силантьич пожелал, ― ответил Камбалаев, тщетно пытаясь перещеголять улыбку Эммы Дмитриевны в глупости.
― Ну-у… Пойдемте, покажу вам что-нибудь, ― сказала Эмма Дмитриевна, ― Олененок, ты с нами или тут посидишь?
― С вами.
Ее внучка, года четыре назад озаглавленная Олей, схватила Эмму Дмитриевну за руку. Камбалаев с изяществом подлодки самоустранился. Эмма Дмитриевна, Зарубин и Олененок побрели по пустому музею.
― Это вот у нас была династия шпагоглотателей, циркачей, ― говорила Эмма Дмитриевна, показывая на старую афишу.
― А что это их так мало? ― спрашивал Зарубин.
― А у нас, милый Егор Силантьич, шпагу глотают только один раз, ― ласково и зловеще отвечала Эмма Дмитриевна.
― Один раз, ― подтверждал Олененок.
― Это вот челябинское «Динамо-Спартак» приезжало к нам на товарищеский матч с нашей заводской командой. Это тренер Симбирев произносит мотивирующую речь. Говорят, очень уважали его игроки.
― И как сыграли?
― Проиграли 0:7. А тренера сняли. Игроки написали письмо, что Симбирев так себе. Вот оно, в рамочке.
― В рамочке, ― подтвердил Олененок, напирая на уже удающееся «р».
― А это вот у нас до революции секта была, клесты, ― сказала Эмма Дмитриевна, ― фото черно-белое, но колодец, видите, червонным золотом покрыт. Это вход. Они спускались туда и месяцами не выходили. И зимой сидели тоже. Что они там творили, ― она посмотрела на внучку, ― никто толком не скажет. Может, подсолнечным маслом обмазывались и хороводы голые водили ― все возможно.
Олененок хищно захохотала и долго не утихала. Ее отрезвил лишь последний зал музея, посвященный Михаилу Сергеевичу Концову.
― Да-а, такой человек был, ― сказала Эмма Дмитриевна, ― столько добра нашему городу сделал. Мечтал, представляете, новую породу людей вывести. Он так с этими партийными кличками намаялся, что предлагал вообще от имен отказаться.
― Как это?
― Да он не успел додумать. Только соратникам обмолвился, что вроде как ко всем обращаешься «товарищ» и добавляешь что-нибудь отличительное. Ну, допустим, Товарищ Столяр или Товарищ Мама. Кто знает, до чего бы он додумался, это все так ― наброски мыслей. Но уже в них видны строгие контуры того, чего он добивался. То есть, побольше государству, поменьше себе, попослушнее на улице, построже дома. Сейчас вон видите: каждый в свой кооператив зазывает, и куда катимся?
«И это говорит, в сущности, шлюха, ― подумал Зарубин, ― свободный цветок за каменными стенами. Шлюха, директор музея, поборник тоталитаризма… Кем только человек не успевает побыть за жизнь. Интересно, в какую сторону повернет Олененок… Внучка, революционер, монахиня, прыгунья с шестом… Какими красками ее распишет судьба…»
― Так и получается, что славят и низвергают всегда те, кто не имеет ни малейшего представления, о чем идет речь, ― сказала Эмма Дмитриевна печально.
В зал вошла секретарь и позвала Эмму Дмитриевну к телефону. Зарубин принялся разглядывать экспонаты. Простреленная серая шляпа, пластинка «Фокстрот 1932», список продуктов, вырванный из блокнота… Что там любил кумир города? Говядина, баранина, отбивные, свиные копытца, филе… «Курица, видимо, еще не кончилась», ― подумал Зарубин. Вдруг он заметил, что Олененок следует за ним, как юный неумелый шпион. Зарубин присел на корточки, девочка подошла.
― Олечка, ― сказал Зарубин, ―, а ты знаешь дядю Савелия Пескарева?
― Конечно. Бабушка рассказывала, а я слышала.
― А что она рассказывала?
― Это очень важный дядя.
― Важный?
― Да-а, он толстый. С бабушку.
― Он поэтому важный, да?
― Да. И еще почему-то.
― Почему?
― Я не помню.
― А кому она рассказывала?
― Всем. Кроме меня. Но я слышала.
― А ты не знаешь, где он?
― Наверное, прячется.
― Прячется? Почему?
― Бабушка говорит, что он ― дурачок. Они его все обижают, вот он и прячется.
Вернулась Эмма Дмитриевна.
― Звонит Сергей Филиппыч, директор рынка, ― сказала она, ― спрашивает, во сколько завтра вас ждать, вы вроде договаривались.
― Завтра? ― расстроился Зарубин. ― Я думал, мы сегодня встретимся. И вы, и он.
― Ну-у, хорошо… Пойду, скажу ему… Олененок, иди, бери свой зонтик, пойдем на рынок.
― Рынок, рынок, колбаса!
Выйдя глубоким вечером с рынка, Зарубин прошел несколько домов, зашел в телефонную будку и набрал дорогой сердцу номер. Ему долго не отвечали, потом все же соизволили.
― Привет, Плакатыч, ― сказал он, ― чего делаете?
― А, Егор, ты. Да-а, пшеничную пьем.
― Пшеничную? ― завистливо переспросил Зарубин. ― Хорошо вам.
― Да уж… Замотались все без тебя, рук не хватает. В Ленинграде сейчас ночами туман страшнючий стоит… В таком ебут обычно, и потом хер дознаешься ― кто! Уже семь случаев за неделю. И ладно бы случай в день, так хер ― все позавчера. Мы уже и на живца-ебунца, и по туману шлялись ― не ловится…
Типичные милицейские заботы, далекая, но такая нужная водка, сквернословия слегка убаюкали Зарубина, он словно очутился дома.
― Алло, ты там уснул, что ли? ― спросил Плакатов. ― Чего ты набирал-то? Ностальгия одолела?
― Слушай, Плакатыч, ты можешь мне помочь?
Плакатов насторожился: помощь означала лишние действия, которые он недолюбливал.
― А с чем?
― Дело не сложное. Смотри… Был такой Михаил Сергеевич Концов…
Пока Зарубин уговаривал Плакатова, в ресторане на главной площади собралось экстренное совещание, целиком посвященное прыткости Зарубина. Судья не притронулся к спиртному и икре, благо он насытился ровно тем же дома. Все глядели нервно. Эмма Дмитриевна так вообще, однажды встав, не садилась. Она стояла, упав бюстом на высокую спинку стула. В любой прежний день это породило бы тысячу вымоченных в похоти острот, но сегодня ― смотрелось комично, не больше. Словно жирные культи, обнимающие мебель…
― И музей посмотрел, и фарфор, и поужинал на рынке, ― сказала Эмма Дмитриевна, ― ну, это уж совсем… Я в один день только музей вижу из этого.
― Машину еще вытолкал, ― напомнил Камбалаев.
― Нет, это не дело, ― сказал директор рынка, ― если он каждый вечер будет заходить ко мне и съедать половину запасов, у меня, так подсчитать, уже на третий день ничего не останется. И это он еще от выпивки отказался. Сослался на расследование.
― Да не пьет он. Совсем не пьет, ― сказал судья.
― Как это?
― Совсем?
― А подойдет он нам? Мы-то… Ну…
― А у Карасева как же?
― Ну, позвоните ему, спросите.
― Нет, спасибо. Я этому идиоту звонить не буду. Сами звоните.
― Ну, подождите. Совсем не пьет? Я понимаю, можно не пить, но чтобы совсем!
Судья постучал совершенно чистой вилкой по совершенно сухой рюмке.
― Давайте подумаем, ― сказал он, ― что теперь делать. Чем его завлекать. Как будто осталось только женщину подложить.
Все посмотрели на Эмму Дмитриевну, которая тотчас посмотрела на себя.
― Что это, ― сказала она, ― вы же знаете, что я… не могу… Давайте, ну, не знаю, театр попробуем…
― Да нужен ему театр! Эмма Дмитриевна, остаетесь только вы.
― Ну, вы позвоните, узнайте, может, нужен.
Камбалаева отправили звонить Зарубину. «То фарфор, то театр, ну и день», ― думал Камбалаев. Оказалось, что Зарубин еще не вернулся в гостиницу. Поговорили еще, придумывая развлечения для Зарубина. Он обернулся общим ребенком полдюжины родителей. Снова отправили Камбалаева. Он поговорил и вбежал в ресторан радостный.
― Нужен, нужен! Хочу, говорит, в театр! Ведите!
Эмма Дмитриевна выдохнула: одновременно трагично и торжествующе, а судья сказал:
― Да, театр. А что у нас сейчас там идет?
Камбалаева отправили звонить директору театра.
Следующее утро Зарубин провел в архиве. Он перебирал документы, звонил в Ленинград, курил и один раз сказал: «А-а, вон что…» Теперь, когда все, кроме одного, стало ясно, он прикидывал, не отказаться ли от вечернего театра. Но, подумав, решил просто перенести его на несколько дней. Все же сцена была ему нужна. Он пошел в гостиницу ― перекусить. Хотя выпить сейчас было бы куда уместнее.
«Как все просто, ― думал он, ― несколько звонков, и мне почти все понятно. Это только в кино тысячи ниточек ведут к одной иголочке. Появляются юродивые племянники, претендующие на наследство. Глухонемые горничные обретают слух ровно настолько, чтобы услышать, как хозяин заводит дружбу с убийцей. А уж за картиной на стене загадок больше, чем у пушкинского дупла. Разве в жизни кто-нибудь поплывет по Нилу, ну, хорошо, по Оби, чтобы посчитаться с бывшим любовником? Едва ли… В жизни все куда примитивнее, и зачем только всё выдумывать…»
А судья спорил с режиссером.
― Ну что ты хочешь мне показать? Что? Ты мне зачем одиночку показываешь? Кому он нужен? Ладно бы еще он что-то такое дельное придумал или рекорд какой. Вон ― у Александр Андреича в больнице одному мужику ногу отрезали, так он еще лучше бегать стал. А тут что? Что это за пьеса?
― Современная… Ак… акутальная…
― Как называется?
― «Человек отправляется в путь».
― Слушай, ты у меня в такой путь отправишься, если с задачей не справишься. Одиночку он показывает. Ты мне кусок народа покажи! А лучше — весь народ! Как он встает, дружно умывается, идет куда-то… А одиночка — куда он пойдет? Гибнуть?
― Ну, в общем, он там и гибнет… ― сказал режиссер.
― Ха-х! Ну, а я о чем? Нет. Довольно. Ты нам сегодня что-нибудь хорошее покажи.
― Да как я покажу, если у меня все актеры заняты?
― Не знаю, как. Есть у тебя дублеры или еще кто. Сам выйди. Парик туда, парик сюда, никто не поймет…
К ним подошел Камбалаев, который в отсутствие Карасева выполнял половину его заданий. Он что-то шепнул судье на ухо и удалился на свежий воздух. Пыль театра он не терпел. Труппа и экипаж казались ему антонимами.
― Твое счастье, ― сказал судья, ― наш гость попросил перенести театр на два дня. Давай, соображай. Про Распутина есть что-то?
― Да вы что ― откуда?
― Ну мало ли. Он у нас мент, ему приятно было бы посмотреть. История историей, а тут все-таки «глухаря» расшевелили. Тогда что-то наше, жизнерадостное, из школьной программы. «Муму», «На дне», над чем там школьники хохочут? «Итак, она звалась Муму», так там, кажется… В общем, на твой выбор. Завтра зайду. Или пришлю Алинур Алинурыча.
На обед судья пошел домой, все равно никаких дел он уже почти с месяц не рассматривал. Он выпил три рюмки коньяка, закусывая каждую тоненькой долькой лимона в сахаре, съел борщ мрачноватой масти, оторвал жареной утке ногу, и тут пришел Зарубин. Судья собирался посвятить себя мясу и коньяку и не собирался никого наблюдать, поэтому на сооружение улыбки ушло полминуты. Но и она ― ненадежная и хиленькая ― тут же обрушилась, потому что Зарубин сказал:
― Пескареву пришла телеграмма!
― Как? Куда?
― Домой. Но его там нет, поэтому вернули на почту.
― А вы…
― А я туда каждый день захожу. На всякий случай…
― И вот он сыграл… случай… А что там написано?
Зарубин отдал ему телеграмму. Судья прочитал:
― Савка… Как договаривались, ждем двадцать седьмого. Крючковы.
Он опустил телеграмму.
― Какие еще на хрен Крючковы? ― спросил он у Зарубина, словно тот вел реестр знакомцев Пескарева.
― Пока не выяснил, ― ответил Зарубин. ― До свидания.
― А… а вы куда?
― Выяснять. Хочу до театра выяснить, дать вам координаты и ― домой. Я же вам больше не нужен…
― Да вроде нет.
― Тогда до среды.
Руки пожали друг друга, Зарубин ушел. Судья задумчиво посмотрел на утиную ножку, свирепо отгрыз большой кусок. Он оказался жилистым. Судья вытерся салфеткой и пошел в зал ― к телефону.
Глава 8. Распоряжается свободой
От Зарубина все отстали. Прекратились звонки, отпали визиты и поездки. Не нужно было больше играть в непьющего, гладить брюки, слушать бред разных категорий отборности и хвалить до узора схожие платья хозяек. Разве что карасевская жена отличалась: платья она в вечер их знакомства не предъявила.
Зарубин полежал лишние полчаса ― ничего. Выждал еще минут двенадцать ― ничего продолжалось. Он вдруг понял, что до театра его оставили в покое. А значит ― у него появилось два свободных дня. Лежа, он попробовал прикинуть, когда еще в жизни у него было два свободных дня. Когда можно ни с кем не разговаривать. Когда можно даже не планировать. Что хочешь, то и делай. Страшно? Непривычно? Еще бы. Но трезвая жизнь в целом и состоит из страха и неизвестности.
Зарубин вспомнил детство. Вроде же эти годы проходят в картотеке лет как беззаботные. Но нет ― беззаботности не наблюдалось. Принеси воды, помоги дедушке, сходи за хлебом, ничего ― завтра на рыбалке отдохнешь. А он ее ненавидел. Ненавидел саму рыбалку, ее конечный результат: эту жалкую полумертвую рыбешку с тысячей костей. Ее доставали из грязного пруда, где принимали ванны все коровы деревни. Маленький Зарубин размышлял, что лучше: сгинуть на чугунной сковороде в брызжущем масле или прожить всю жизнь в мутном прудовом киселе. Да если б был выбор. Если бы он только был… Дедушка же не думал: он весело подсекал красноперку и говорил: «О-на, какую отмудохал! С ладонь!». Ладонь у дедушки была хоть и трудовая, но не советских масштабов.
В школе милиции и позже ― на семейной карусели ― дни тоже сновали вокруг, не предлагая опомниться. К тому же, помимо жены, добавилась новая спутница ― водка. Она несла Зарубина проворным корабликом, не оставляя времени на размышления.
А теперь ее не стало…
Трудно было придумать, что делать. Зарубин не верил, что можно пойти завтракать без отчета, без спешки. Что можно пить чай, есть хлеб с маслом, не вспоминая о беспощадной гонке, что поджидает за дверью. Ему то и дело хотелось рассчитать время, купить газету с кроссвордом, сходить за ряженкой для жены, броситься в привычный овраг из дел и обязательств. Неужели мог он вот так сидеть, когда все вокруг вставали и шли? «Ну, а если я хочу сидеть», ― подумал Зарубин отчаянно, но тут же вскочил, недопив чай, и вышел на улицу. «Хотя бы погуляю», ― решил он.
Чтобы обозначить хоть тщедушную, но цель, он пошел к городской арке на въезде в Концовск. Эмма Дмитриевна говорила ему, что эта арка что-то символизировала или даже что-то важное с нее началось. Но, поскольку цель у Зарубина была совершенно фиктивная, достичь ее он не сумел. Причем ничего не осталось от нее уже минут через десять. Зарубин наткнулся на поэта, который и на первой вечеринке сидел с драматическим видом и сейчас явно не веселился… На колене он держал банку огурцов в мутном рассоле.
― А-а, Егор Силантьевич, ― сказал он, словно примеряя первую строчку унылой строфы.
― Здравствуйте…
― Я ― Мальков, поэт, помните?
― Помню.
― Ну и хорошо. А то, кроме вас, кажется, никто не помнит.
― Что вы имеете в виду?
― Да-а… Своих родных. У меня не квартира, а отель. Приезжают из таких городов, которых я названий-то не знаю.
Зарубин не знал, что отвечать. К счастью, поэт прекрасно управлялся один, не нуждаясь в диалоге.
― Скажите родным, что вы предпочитаете писать в тишине, и они задушат вас своим обществом. Я тут продал машину, начал работать в гараже, и то туда каждый день кто-нибудь заявляется, чтобы сказать, эх, жаль, гараж пустует… При том что я там сижу, прямо посередине… Думаю, продам гараж, куплю палатку, сяду в лесу, так из-под земли полезут. Опята проклятые…
Он замолчал, и Зарубин подумал, что теперь, наверное, нужно спросить, где можно достать его стихи, а поэт ответит, что он подпольный или наоборот, что его книжка лежит во всех магазинах Концовска, не исключая молочных кухонь и хозяйственных. Что называется она, совершенно точно, очень краеугольно: «Кибитка с севера души» или «Песнь алой рыси». Что поэт потратил на ее написание или, точнее сказать, создание много поэтомесяцев. А еще ― он большой профессионал и может выскоблить стихотворение из ничего. «В конце концов, ― думал Зарубин, ― любой начинает разглагольствовать о профессионализме, топя в обвинениях всех, кто не твоей профессии… Или на полнедели младше тебя… Сейчас начнется…»
― До свидания, Егор Силантьевич, ― сказал Мальков, ― побегу в гараж. По моим подсчетам они в одиннадцать должны на детский спектакль пойти.
Зарубин остался один. Идти к арке не хотелось и он задумчиво пошел в другую сторону. Концовск переживал такой час, когда школьники уже заняли свои места на уроке, а старушки ― купили мыло и салаку и отдыхали во дворах с брикетом пломбира. На улицах попадались лишь несчастные поэты и погруженные в колодцы собственных раздумий милиционеры. Кто были остальные прохожие ― Зарубин и представить не мог.
Проезжали нечастые автобусы, неохотно взлетали тощие голуби, а Зарубин ничего не замечал. Все плыло, струилось и порхало отдельно от него. Даже исчезновение Пескарева, которое они на пару с Плакатовым раскрыли, совсем его не волновало ― дело прошлое, загадка вчерашнего дня. Зарубин словно волочил за собой тяжеленную ржавую гирю с одиночеством. И даже люди, что попадались на пути, хранились в его памяти или ждали завтра в театре, не обещали доброй компании. Они собирались в стайки, в несуществующие тайные общества, куда Зарубину проникать не полагалось.
Конечно, как и все последнее время, он думал. Но теперь ему казалось, что время действительно ― последнее. Пятнадцать-двадцать часов ― ну, или сколько там осталось бодрствовать до театра ― и что-то изменится. Что-то настанет и перевернется. Поэтому он хотел ухватить окончательные мысли за переливающиеся ускользающие хвосты и в голове его было несколько сумбурно. Уже обошел он весь город, забыв об обеде, миновал арку, которую даже не заметил, а видения и откровения всё клубились вокруг, и котенка, чтобы распутать ловкой лапкой этот клубок, не предвиделось.
«Завтра все закончится, ― думал он, ― или начнется ― какая разница… Расскажу им про Пескарева, полюбуюсь изумленными мордами, а утром уеду домой. И опять все по-старому… Отдел, дспэшный стол, бумаги, рис с котлетой в столовой, сигареты, Светкины заморочки… Так и проходит жизнь… И у всех так… И ничем не прикроешься… Нет такого камня, чтобы швырнуть в витрину, за которой эта бесконечная чернота… Страшно… Жутко… Вот и выдумываешь себе работы, дачи и бытовые приключения… Лишь бы только ватага родственников потом сказала, что жил не зря…
А кто в самом деле жил не зря? Кто?.. Их ведь нет… Ну, вытащил ты человека из огня, обезвредил каннибала-насильника, что еще? Ну, если совсем уж замахнуться: выдумал лекарство, которое продлевает жизнь до трехсот лет… Ну и что? Не зря? Прославят тебя в веках, а тебе-то что? Да помнить об этом будут две-три минуты… «Так, лекарство, которое продлевает жизнь до трехсот лет принял, теперь можно и в бордель на пару веков»… Благодарность ― хуже мошкары: хочется избавиться скорее… Вон я Плакатычу бутылку пообещал за помощь… Так я теперь буду думать о ней, пока не куплю, а он, пока не выпьет… Вот и вся благодарность…»
Зарубин купил беляш, забыв взять сдачу. Голова его наполнялась куда быстрее желудка. Беляш он едва ел.
«Вот торчат они в этом своем Концовске. Мы торчим в Ленинграде. Да в каком городе ни торчи, ― одно занятие… Вот они тут все поливают Карасева… Карасев идиот, Карасев ― шут… А они-то сами? Они-то где? Бесконечно отгораживаются Карасевым, так чтобы самих не было видно… Потому что там чуть красочку колупнуть ― такое обнаружится… Идиотизм, помноженный на шутовство и возведенный в бесполезность… А губы дуют ― как будто вчера Венеру колонизировали… Особенно судья… Малыш малышом, а все туда же ― разжирел и корчится… Вы хотя бы упорство, с каким вы при свете фонаря ночью преследуете комара, перенесите на ваши ежедневные обязанности. Тогда и Карасев не понадобится…
Хотя… К чему это рвение? Наверное, каждую секунду в мире хоть одна мать да любуется, как ее бисквитный сынок отбивает чечетку на утреннике. Только бы не хуже того маленького куплетиста или «лисички» с уродливым четверостишием про снегиря-отличника… Не хуже ― здорово… А если лучше? О-о, тогда можно нырнуть в Черное море гордости… Тогда ― полкило «коровки» и конструктор… И ожидание новых и новых успехов… Только соответствуй, сыночек, только ползи вперед, кровиночка, только не думай ни о чем… Плоди кровиночек и блистай на застольях… Бассейны крови перед равнинами жратвы ― вот что мы такое…»
Зарубин долго ходил по Концовску и перебирал в голове какие-то неправдоподобные ракеты, непонятно к чему покидающие Землю, спортивные достижения, одно смешнее следующего, и много чего еще, что являлось ему впервые: здесь, в постороннем городе. Вечером он вернулся в гостиницу, неожиданно очутившись перед ней. Он набрал почти холодную ванну и отрешенно лег в нее, погрузившись по лоб ― остудить раскаленный рассудок. Открыл под водой глаза, увидел нищету мужского могущества, дрейфующего в полуметре, и улыбнулся. Спал он, ровно дыша, и проснулся так же, как и заснул: на спине.
Сегодня ему было не до мыслей. Да и набеги они, как вчера, он не нашел бы времени их думать. Весь день Зарубину, как в немыслимой пьесе, встречались участники его первого здешнего ужина. У гостиницы на остановке сидел поэт. Около универмага Зарубин наткнулся на Эмму Дмитриевну, спешащую за румянами. У рынка беседовали андролог и директор рынка. Камбалаев забирал из химчистки отутюженное штатское. К судье Зарубин зашел сам. И со всеми он поговорил, а с некоторыми даже и перекусил. Судье же он сказал, что перед началом спектакля хотел бы поблагодарить собравшихся за гостеприимство, на что ему нужно минут десять. Судья милостиво подарил ему полчаса.
Театр ютился в крохотном здании между огромной больницей и осьминогоподобным кладбищем. Возле двери висело скромное объявление:
Сегодня театр закрыт. Вернуть деньги за билеты можно, позвонив по телефону в ближайшую пятницу с 14:30 до 15:10.
Ко входу подходили нарядные люди. Они рассчитывали на шампанское и бутерброд с дефицитной колбасой. Глаза их маслянисто горели. Они дергали ручку, читали объявление, переглядывались с супругами и гасли. Дома ждали самогон и хлеб с чесноком.
Зарубин, как и полагается милиционеру, попал в театр с самого черного хода. В буфете, открытом сегодня для горстки неродных театру людей, он съел трубочку со взбитыми сливками и выпил кофе. Потускневшая буфетчица ответила на его рубль двумя монетками. В обычные дни она сияла, меча по блюдцам эклеры и корзиночки с кремом, но этим вечером радушия у нее было в обрез. Да и в Зарубине она тотчас распознала виновника отмены спектакля ― не пристало ей с ним любезничать.
Зарубин пришел чуть раньше и ходил по узеньким коридорам, разглядывая фотографии актеров. Остановившись у одной, он сказал, «ага», и провел тут минуты четыре. Это была красивая актриса, женщина, но нужные ему мужские черты Зарубин разглядел.
«Маргарита Эндельман, ― прочел он и улыбнулся, ― как же все оказалось просто. Служила в театре с пятьдесят четвертого по семьдесят девятый. Участвовала в постановках: „Мольер не кусается“, „Много шума, но ничего“, „Страсти по Иосифу“, „Из грязи ― в грязи“ и десятке других. Сейчас мы тебя обналичим…» Он аккуратно снял портрет со стены и спрятал его в портфель.
Законов театра Зарубин не знал. Да и театрального кодекса в продаже не существовало: не собирать же крупицы сведений по мемуарам. Все, что ему было известно, ― что актеры подозрительно напоминают преступников. Полжизни проводят под чужими именами и готовы прирезать за лакомую роль. Так что лучшее место для сегодняшней развязки подыскать было трудно.
По одному-двое собирались гости. Всё те же, всё с теми же лицами. Даже Карасева позвали. Зарубин не видел его со дня их совместного ужина. Он продолжал таскать на себе облик придурка, но, Зарубин мог поклясться, что-то в нем изменилось. Одна черточка, одна идиотская морщинка, но что-то выправилось. Никто этого, конечно, не замечал, но никто и не видел другого Карасева. Зарубину казалось, что по взгляду, которым он обменялся с Карасевым, тот все понял. И про планы Зарубина, и про вечер, и про завтрашний день.
Зарубин вошел в зал и огляделся, посмотрел наверх, на балкон. Зал был крохотный, а балкон ― и того меньше. Зарубин улыбнулся: такие размеры ему и требовались.
К семи все сидели на первом ряду. Только Карасев и Эмма Дмитриевна где-то гуляли. На сцене появился режиссер, скверно переодетый в черносотенца Пуришкевича. Он спросил судью:
― Можно начинать?
― Подождите, ― ответил судья, ― наш гость хотел сказать нам несколько слов. Егор Силантьевич, прошу вас.
Режиссер с лицом, вмиг ставшим брезентовым, растворился за кулисой, а Зарубин поднялся на сцену и поставил портфель у рампы. Ему захлопали. Он хорошо видел полутемный зал, балкон. Все словно еще уменьшилось. Протяни руку и можно пошарить на балконе, если захочешь. А вот и прожекторы. Все как нужно. Сейчас они все осветят. Сейчас все откроется.
Аплодисменты смолкли, и нужно было начинать.
― Здравствуйте, ― сказал Зарубин, ― Федор Карпович отвел мне полчаса, но, я уверяю вас, все займет намного меньше времени.
Он замолчал, и из-за кулисы высунулся режиссер-Пуришкевич. Судья показал ему предупредительную ладонь: рано. Режиссер нырнул обратно.
― Спасибо всем, ― продолжил Зарубин, ― кто принимал и развлекал меня всю неделю. Вы мне очень помогли.
Все снова захлопали. Что-что ―, а это они умели.
― Спасибо, спасибо. А теперь я быстренько расскажу о том, что я понял, а что ― нет.
Он нагнулся и достал из портфеля портрет актрисы, держа его лицом к себе. Андролог смотрел с интересом, директор рынка нащупал в кармане пыльную черносливину.
― Кто это? ― спросил Зарубин, повернув портрет к собравшимся. Судья шумно выдохнул: он знал ответ. Все молчали. Зарубин заговорил сам:
― Это актриса Маргарита Эндельман. Она служила в этом театре много лет. А кто скажет, чем еще она примечательна? (Тишина.) А примечательна она тем, что у нее было три фамилии. Девичья, которая нам безразлична. Эндельман. И еще одна. Кто назовет третью? Федор Карпович? Нет? Что ж… Тогда назову я. Ее третья и главная фамилия ― разумеется, Концова. Это жена Михаила Сергеевича Концова, именем которого назван ваш гостеприимный городок.
Все не то ахнули, не то ухнули. В любом случае звук раздался слегка совиный, но никак не человеческий. Глаз на первом ряду собралось около двух дюжин, но смотрели они как вся тысяча: цепко, горячо и внимательно.
― Ей повезло. С ее мужем расправились, а ее пощадили. Но фамилию пришлось сменить. Потом, как будто ей было мало мужа, начались гонения на граждан со схожими фамилиями, к которым она не имела никакого отношения. И поэтому ее дочь с радостью приняла фамилию мужа: совершенно советскую и не подозрительную. Все это я узнал, проведя несколько часов в архиве. Оказалось очень легко, словно этого никто и не скрывал.
Он задумался, и снова показался «Пуришкевич», который давно наплевал на халтурную пьесу и заинтересовался спектаклем Зарубина.
― Да, ― сказал Зарубин, ― продолжим. У этой дочери и ее мужа родился сын. Совершенно обычный мальчик, вроде меня или вас.
Он наугад показал рукой в полутьму зала.
― А фамилия его ― Пескарев. А звать ― Савелием.
Напряжение треснуло, как лед под каблуком гимназиста.
― Это что же, ― спросил Камбалаев, ― наш Савка? Который пропал?
― И да, и нет, ― ответил Зарубин. Слова были простые, но словно сплетенные из пеньки: так крепко Зарубин держал аудиторию за горло. ― Да, потому что это ваш Савка. Нет ― потому что он никогда никуда не пропадал.
Судья закурил, не вставая с места. Камбалаев решил, что ему тоже можно.
― А где же он тогда? ― спросил он. Судья потер глаза ладонью и так и не убрал ее с лица.
― Секунду, ― попросил Зарубин и крикнул: ― све-ет!
Зажглись прожекторы. Их лучи сейчас напоминали тюремные. Они осветили балкон. Милиционер, стоявший до этого мгновения в темноте, поморщился. Все задрали головы.
― Это мой товарищ по Ленинграду, ― сказал Зарубин. ― Наверное, с вас на сегодня достаточно фамилий, поэтому ― просто Анатолий. Толик, давай.
Клюквин почти ласково хлопнул по плечу, еще укрытого тьмой человека. Тот встал. Все увидели упитанного розовощекого парня в красной футболке ― Савелия Пескарева. Он застенчиво улыбался, словно только что напек блинов для собравшихся по рецепту, в котором сам еще был не уверен.
Кровь из лица судьи хлынула по иным маршрутам.
― Зачем ты сюда приперся? ― голосом выпи закричал он. В него полетели взгляды: здесь его знали сдержанным и вальяжным хранителем закона, а не обманутой проституткой. ― Зачем?
Пескарев свесился с балкона.
― Федор Карпыч, вы чего? Сами ж позвонили и сказали.
― Я?
― Ну да. А кто ж мне сказал, чтоб я еще в этой футболке пришел? Она у меня уже год как не носится…
― Федор Карпович, ― сказал Зарубин таким голосом, словно вся власть от судьи перешла к нему, ― не надо. Конечно, это звонили не вы…
― Не Федор Карпыч? ― удивился с балкона Пескарев.
― Не я? ― растерялся судья.
Все уже стояли на ногах. «Пуришкевич» чуть не целиком вылез на сцену. Судья растоптал сигарету и взял следующую.
― Ну, конечно, нет. Помните, Федор Карпович, я пришел к вам с телеграммой Савелию от неких Крючковых. Ну. Никаких Крючковых не существует. То есть, они есть, и они отправили телеграмму. Это родственники моего коллеги по отделу, капитана Плакатова. Ну вот опять мы сбились на фамилии. Он попросил их дать телеграмму, ее вернули на почту, я ее там «нашел», зная, что она там лежит. Пришел к вам, вы, естественно, возмутились: какие еще Крючковы. Помните? И когда я ушел, вы позвонили Пескареву. Так мы вычислили номер. Ну, а дальше ― совсем ерунда. Вчера уже мы ему позвонили и приблизительно вашим голосом сказали прийти сюда к шести часам. У театра дежурил Анатолий… Ну и…
Зарубин щелкнул пальцами. В кино, что он смотрел, так делали люди, неожиданно обретавшие свежую идею. Зарубин, правда, уже предъявил эту идею, но надеялся, что никто не обратит внимания на поломанную очередность. Никто и не обратил.
Судья вернулся в кресло и достал новую сигарету, забыв прикурить.
― И что же ― вы все время знали, где он?
― Нет, ― ответил Зарубин, ― и сейчас не знаем, где он был. Но ведь где-то недалеко. Кассирша же видела его на вокзале. Недалеко же?
― Да здесь, в паре станций отсюда, ― сказал Пескарев.
С минуту молчали. Потом судья, весь в сигаретном дыму, спросил:
― Если вам это известно, то что же вам не известно?
Зарубин шагнул к самому краю сцены.
― Мне не понятно: зачем нужно было это представление?
Судья ядовито улыбнулся:
― Ну это я сейчас мигом объясню.
Кровь вернулась в его лицо.
Публика окончательно смешалась. Они уже успели признать Зарубина новым вождем и поклониться ему. Но тут заговорил свергнутый лидер. И аудитория раскололась надвое. Но не в том смысле, что одни примкнули к Зарубину, а вторые ― к судье. А в том, что все они приготовились принести себя в жертву и тому и другому. Двум жрецам, двум пророкам.
Судья поднялся на сцену. Подошел к декорациям и крикнул:
― Эй, Пуришкевич. Можете расходиться. Сцена сегодня наша.
Беззвучный мат рассерженных губ режиссера не проник на сцену. Судья подошел к Зарубину и действительно быстро рассказал все.
― Понимаете, Егор Силантьевич… Долгое время у нас пустует должность начальника милиции города… Нет, человек-то на ней есть, но не то, что нам требуется… Как вы знаете, я хорошо знаком с вашим начальством. Несколько лет назад они прислали нам как раз вашего коллегу (он показал рукой на балкон). Мы хотели испытать его, но он явно не справился.
Пескарев сочувственно посмотрел на Клюквина. Не справился, а теперь держит его за локоть ― имеет ли он такое право?
― Мы ждали, и вот мне позвонил Глеб Степаныч и обрадовал. Есть! Есть, какой тебе нужен. Без особого рвения, без особых успехов.
Пескарев перегнулся через балконные перила и посмотрел теперь на Зарубина. Что за милиция собралась в театре?
― Я обрадовался. Придумал пустяковый предлог. Отправил Савелия вместе с учетным журналом в дом отдыха. И тут приехали вы. Мы рассчитывали провести несколько приятных недель в бесконечной череде обедов и приемов. Убедиться, что вы можете закрывать глаза на то, на что нам нужно. Что вы просто приехали выполнить задание начальства: то есть нехотя и формально. Но вы же… Обнаружили эту кассиршу, рассекретили дворника, пытались всучить парикмахерше деньги за стрижку, раскрыли нашу радиостанцию, начали назначать какое-то бешеное количество встреч. Мы за вами просто не успевали. А потом вы взяли да и дознались до всего. Егор Силантьевич… Глеб Степаныч расписывал вас в гораздо более скромненьких красочках. Не как Клюквина, конечно, но и не в виде отца Брауна.
Клюквина давненько не унижали в театре. Пескарев уже и не смотрел на него.
― Егор Силантьевич, ― сказал судья, ― вы можете объяснить, что происходит?
Началась и никак не кончалась молчаливая пауза. Наконец, стыдясь собственных фраз, Зарубин сказал:
― А-а, дело в том, что я, наверное, много пил… Сами знаете, милицейская служба не сахар… Да и ничто не сахар, кроме сахара… Ну, вы понимаете… Сначала ты ловишь бандюгу, а потом, на банкете в честь Дня милиции, сидишь за одним столом с пригоршней его приятелей. И пьешь с ними, и поднимаешь за них тосты. И ничего не можешь сделать. Это так ― общий случай, который еще на сотни частностей делится. То премии лишат, то отец сало пришлет, а его ж не будешь просто так есть… Ну вот так и полилось ― из бутылочного горлышка в мое… Жена терпела-терпела и говорит: зашивайся. Ну и вшили мне ампулу…
― Куда? ― спросили сразу несколько голосов. Зарубин повернулся.
― Сюда. ― И показал под лопатку.
― А-а, ― разочарованно отозвались голоса.
― Ну и вот… А без водки… Вы представляете, что значит ― без водки? Сколько можно телевизор смотреть? Минут восемь-девять. Вообще занять себя нечем. Плюс всякая жуть в голову набивается и приходится ее думать. Всё проясняется, аж больно смотреть… Вот я и занялся расследованием, чтобы о другом не думать.
― Подождите, ― сказал Камбалаев, ―, но вы же пили в первый же день.
― Воду, это была вода.
Судья кивнул.
― И что же? Вам за все это время ни разу не захотелось выпить?
Зарубин отшатнулся, как от кочерги из камина. Водочной простыней налетело воспоминание.
― Хотелось, ― почти шепотом ответил он, ― хотелось… Мечталось… Это невозможно вынести… Все кругом обедают в свое удовольствие, а я ― в чужое…
У него задрожали руки и мысли.
― Отняли… Всё отняли…
Судья сделал шаг к Зарубину.
― Егор Силантьевич… А что если… Вам выпить?
Зарубин покачал тем, что несколько дней считал своей головой.
― Нет, Федор Карпович. Там же дисульфирам, будь он проклят.
― А что если, Егор Силантьевич, если из вас его извлечь?
― Как это?
― Как зашили, только в обратном направлении. Александр Андреевич у нас все-таки врач. Есть же у него друзья-наркологи. А, Александр Андреевич?
― Организуем, ― ответил андролог. ― Ради такого освобождения они все хоть ночью встанут. Врачи водку хорошо понимают. Хоть и врачи…
Трепетный краешек надежды коснулся зарубинского сердца. Угрозы жены, настоянные на мученичестве трезвости, вспорхнули и мгновенно забылись. «У дураков всегда под завязку мешок знакомых», ― подумал он, но мысль как-то затерялась среди других ― попривлекательнее.
― Зачем же я вам так нужен? ― спросил он, глядя на судью глазами исцеленного слепца.
― А это, Егор Силантьевич, я расскажу вам по дороге. Если вы, разумеется, согласны.
Зарубин вгляделся в луч прожектора, туда, где он, рассеиваясь, кончался. Он освещал сейчас не Клюквина с Пескаревым, не блестяще вскрытый сундучок с тайной, а его, зарубинское, будущее. Слишком ярок был луч, чтобы не рассмотреть оба исхода. И да, и нет открывали двери в совершенно очевидные комнаты. И Зарубин должен был решить, куда он войдет с чемоданом вещей и размышлений, чтобы осесть и обустроиться. Он пролистнул долгую пьяную жизнь и задумался над несколькими неделями стеклянной трезвости. «А что бы выбрали вы? ― колотилось в его голове так, что ошметки прочих соображений разлетались, как от взрыва. ― А что бы выбрали вы… А что бы выбрали выыыыыыыыы?»
― Согласен.
Судья, как смог, обнял его за плечи коротенькой толстой ручкой. И тотчас спустился со сцены и начал поливать собравшихся распоряжениями. Зарубин услышал про машины, ресторан. Люди засуетились. Камбалаев, придерживая рукой ненадетую фуражку, понесся прочь из зала. Директор рынка кричал, «где тут телефон, я тут отродясь не бывал». У судьи словно отросло пять дополнительных рук, готовых к самой бешеной жестикуляции. Зарубин же, покачиваясь, стоял на сцене, чувствуя то, что чувствует приговоренный к наказанию плетьми. Только столб, к которому его привязали, был из тюля, а плети ― пуховые. Он тонул в бархатном водовороте, кружась, но не погибая окончательно. Поролоновые валуны летели со скал, произведенных природой не то из дынной мякоти, не то из есенинской лирики ― из водоворота было плохо видно. Промчался перед глазами водитель Костя, в ЗИЛке, груженом клюквенной пастилой. Далекий потерянный навсегда Плакатов написал в рапорте: «…никакая она не потерпевшая, разве свободой можно изнасиловать…» Возник мираж судьи, и Зарубин ждал, что он сейчас даст ему творожное кольцо или споет колыбельную. Но судья довольно буднично сказал:
― Егор Силантьевич, пора ехать.
Время миражей кончилось, судья оказался вполне настоящим. Он еще успел приказать Пескареву:
― Савка, завтра ― на работу. Нагулялся! Там дел до жопы скопилось.
Что прозвучало уж совсем по-судейски.
В машине Зарубин повторил свой вопрос.
― Зачем я вам понадобился?
Судья закрыл перегородку между ними и водителем.
― Вам, возможно, покажется это странным… Хотя… В общем… Мы все знаем Михал Сергеича Концова как образцового коммуниста. В прошлом случалось всякое, но я уверен, он бы не допустил того, что творится сейчас. Идиотские песенки, непредсказуемые люди… Согласитесь, гораздо удобнее, когда знаешь, чего ждать от человека.
― Соглашусь.
― Ну так вот. Я хочу, с помощью Александр Андреича, конечно, создавать таких людей.
― Как это ― создавать?
― Очень просто. Пескарев у нас есть? Есть. А он чей потомок? Михал Сергеича Концова. Значит, что-то упрямо-послушное, концовское, в нем есть?
Зарубин поморщился:
― В Пескареве? В нем, скорее, что-то телячье. Представляете, какие человеческие следы он оставит…
― Да, конечно. Но это если позволить ему их воспитывать. А если с ними работать с самого детства: преподавать им жизнь их героического прадеда, рассказывать о верности их матери родному театру, оградить от современных влияний: книжечек, песенок; запретить всякие вольности… можно получить вполне предсказуемых молодых граждан…
― Дело неплохое, но все-таки не пойму, зачем вам для этого начальник милиции?
― Ну, мы же не отдадим их Пескареву… Не отдадим… А их будет появляться все больше и больше. Похожих друг на друга и не похожих на других… К тому же мы выстроим сперва детские сады, а потом и школы только для них. Через Камбалаева устроим для них военные училища. Естественно, все мамаши захотят пристроить своих нелепых детей в такие школы. А мы им откажем. Они станут писать в газеты, на телевидение, в Москву и Ленинград. Вот тут-то и понадобится ваша помощь. Вы будете выступать гарантом законности происходящего. Придете в одну газету, съездите в областную, позвоните в Ленинград: с вашими-то связями… А тем временем концовские дети будут расти и здороветь… Представляете… Все, как один, розовощекие, здоровые, сильные и ― одинаковые!

― Послушайте, ― сказал Зарубин, ―, а вдруг Пескарев захочет повидать потомство? Как вы ему все объясните?
― Савка? Да я ему что скажу, то он и сделает. Нам же от него только голый биоматериал нужен. Скажу, постановление вышло, кто помогает другим районам, тому премия. У него зарплата ― копейки, он в протестантство за четвертак обратится. А нам и нужно-то два посева в год. Мы с каждого по пять новых Концовых наделаем.
― Как это?
― Через искусственное оплодотворение. Не слышали? Уже несколько лет у нас практикуется. А на Западе, чтоб его, и того дольше.
Зарубин подумал полминуты.
― Федор Карпович… А зачем вам такие сложности?
Судья приподнялся, насколько разрешила крыша «Волги», взглянул в ее окно и сказал:
― Страну спасти хочу.
Они подъехали к больнице одновременно с машиной андролога. Их встретил полупьяный врач. Он курил.
― Ты чего это? ― спросил Александр Андреевич.
― А чего? Вы меня из-за стола вытянули. Сын с колонии вернулся, надо ж как-то отметить, поговорить.
― А вы… справитесь? ― спросил Зарубин.
― Пффррр, только руки не забыть вымыть.
― А когда можно… ну… употреблять…
― Да как вынем, так через два часа заливайся. Пойдем.
Они пошли в кабинет. Судья с андрологом сели на банкетку у двери.
― Согласился? ― спросил Александр Андреевич.
Судья кивнул. Андролог улыбнулся. Ему тоже хотелось послушных граждан.
В кабинете было слишком светло. Зарубин видел руки чуть не насквозь.
― Будешь? ― спросил его врач. ― А тебе ж еще нельзя.
И он опрокинул рюмку медицинского спирта.
― Ну, раздевайся, ― сказал он, ― где она у тебя? В жопе?
― Под лопаткой.
― Ишь ты ― гуманно.
Он достал шприцы и ампулы.
― Так, наркоз, противоядие… Ничего я не забыл?
― Ничего, ― уверенно сказал Зарубин, будто знал верный ответ. Врач засмеялся:
― Так сильно врезать хочешь? Понимаю. Жена заставила? Меня тоже хотела, да что там меня ― у нас любого «зашивать» можно. Только я не дался. Ага, не пить. Двадцать первый век на носу. Того и гляди что-нибудь изобретут… Вот бы нобелевку дали человеку, который бы от похмелья препарат изобрел. Пьешь, нажираешься, а утром встаешь ― и ничего не больно. И пьешь уже в удовольствие, а не чтобы не колошматило. Вот ты кто по профессии? Мент? Ого. Получается, 03 и 02 в одном месте сошлись. Пол-литра получается, а? Ха-ха-ха! Так, поворачивайся…
Зарубин вышел из кабинета. Врач после операции махнул еще спирта и решил ночевать на кушетке. Судья с андрологом встали.
― Ну, поздравляю, ― сказал судья.
И крепко сжал зарубинскую ладонь. Андролог повторил рукопожатие. Они вышли на свежий воздух. Было еще светло.
― Федор Карпович, ― попросил Зарубин, ― покатаемся два часа? А то мне нельзя пока что… А как за столом сидеть? Теперь я не выдержу…
― Конечно, ― ответил судья, ― что вы меня спрашиваете. Вы ― начальник милиции Концовска, сами отдавайте приказы.
Андролог уехал в ресторан, Зарубин с судьей сели в «Волгу». Зарубина слегка покачивало. Ему хотелось думать что-то новое, не обдуманное в концовские дни, но ничего не появлялось.
― Пока тебя там резали, ― судья говорил уже по-свойски, ― Камбалаев приезжал. Карасев Эмму трахнул.
― Всю? ― глуповато спросил Зарубин.
― Всю. Буфетчице ножом пригрозил, связал ее и на ее глазах всю Эмму и отэксплуатировал.
― Что ж это ― мое первое дело на должности?
― Нет. Эмма сказала, что счастлива. Столько лет ждала. Буфетчице пятьдесят рублей дали вроде премии.
― А Карасев?
― Скрылся. Исчез. Ни дома нет, ни на даче.
― А… в голубятне искали?
― Он тебе и про это рассказал! Искали. Сплошь голуби, никакого Карасева. Да и черт бы с ним, нам другие возможности открываются.
Они кружили по Концовску, сколько просил Зарубин. Судья говорил и говорил о перспективах, о податливых людях завтрашнего дня, о крохотной тени карликовой березки, что разрастется и накроет государство через каких-нибудь тридцать лет. Иногда они останавливались на пустыре и судья обещал:
― Здесь будет детский сад.
Потом подъезжали к зданию бани и он планировал:
― Снесем ее к чертовой матери. Все равно одни лишенцы по вторникам моются, когда в полцены. А школу ― построим.
Так они снесли и выстроили несколько зданий. Особенно красивым получился Дворец массовых встреч будущих концовцев. С памятником самому Михаилу Сергеевичу во внутреннем дворике.
Наконец прошло два часа. Они подъехали к ресторану. Летние вечера ― длинные, терпеливые, но и им приходится прощаться, темнеть. В едва наметившихся сумерках они прошли между елей. Андролог курил внизу.
― Я запретил всем есть и пить до вашего приезда, ― сказал он.
― Браво, Александр Андреич, ― ответил судья.
― Карасев не нашелся? ― спросил Зарубин.
― Нет, да его и не искали.
Дальше Зарубин запомнил все по секундам. Длинный стол, за которым все сидели встревоженные и торжественные. Его стул во главе стола. Скатерть, словно прошедшая через тоннели дополнительного кипячения и отбеливания именно около его, зарубинского, места. Сверкающие приборы, что не грех было использовать и в операционной. Зарубин сел. Официант подвинул ему рюмку и хотел налить водки из хрустального графина. Зарубин остановил его.
― Дайте стакан, ― сказал он.
Моментально принесли стакан. Официант налил. Зарубин схватился взглядом за этот тоненький бесцветный ручеек, суливший ему все цвета всех радуг на свете. Стакан наполнился, и капля сбежала на скатерть по чистой холодной грани. Собравшиеся подались вперед. Они как будто принимали его в тайное общество, которое никак не могло состояться без Зарубина. Андролог смотрел влюбленно. Эмма Дмитриевна ― счастливо, как человек, обретающий второе счастье за вечер. Директор рынка ― оценивающе. Поэт ― мечтательно. У каждого в глазу имелось свое стеклышко, определяющее оттенок чувства. Зарубин взял стакан. Все подняли рюмки.
― Наше здоровье, ― сказал он.
И выпил…
Водка, леденя и обжигая горло, понеслась по внутренним коридорам Зарубина. Огромная космическая баржа… Товарный состав, обладающий хрупкостью бабочки… Тяжесть и невесомость, мощь и проворство… Она лавиной уносила прежние мысли… Уже не думал Зарубин о времени и его неуловимости, о неясно что скрывающем смехе, о мужских забавах и тяготах, обо всем в отдельности и об отдельном ― всем скопом. Как грязная вода, освобожденная усилием хозяина от преград засора, устремились в слив лоскуты фраз и бусы предложений, вереницы слов и горстки знаков… Гнала их одна длинная финальная мысль ― Праматерь новых мыслей: далеко не блистательных, но фундаментальных, опорных…
Зарубин поставил стакан и не тронул закуски. Ему аплодировали глазами и тянулись к маслятам, буженине и икре. Он боялся, что после долгой разлуки водка поведет себя непристойно или хотя бы невежливо, но она обернулась старой школьной любовью, позвонившей дождливым вечером, чтобы все вернуть. И вроде ты не видел ее много лет, но всегда надеялся, что зазвучит еще ее голос, а вместе с ним ― и юность, давным-давно висящая в шкафу среди строгих костюмов и служебных кителей.
«Вот оно! ― думал Зарубин. ― Вот оно все и пришло! Господи, что было у меня в голове. Зачем набивалось в нее и распирало. Почему одна лишь несчастная голова так влияла на мое существование. А как же ноги ― ведь это они несут меня утром в отделение. Как же спина ― она не дает согнуться всему телу, которое ежедневно кто-то хочет свернуть в рогалик. Столько всего в человеке… Костей двести наименований, а побеждает голова… Почему? Почему? Даже вот в моем случае… Жил себе обычным ментом, делал, что должен, а скатился до никчемных рассуждений… Полез бегемот в чужое болото…
Не-ет, не может каждый заниматься чем хочет… У каждого свое предначертание… Еще когда только тускленько засветилась мысль в голове отца твоего и матери твоей о тебе, уже тогда понятен путь их чада… И если задумается отец о тебе, как о генерале, а мать в неуёмных фантазиях станет нянчить еще неродившегося солдата, то и пытаться нечего рисовать афиши бродячего цирка. Бесцельно и глупо… Уж будь, каким задумали тебя, маршируй до бессилия. Я вот ментом родился, ментом и останусь… И раз уж водка непременно нужна, значит будем пить… Кто знает, может, придут новые поколения следователей, чьи страсти затрепещут не вокруг выпивки и карт, а только в масштабах служебных обязанностей, но не пора еще, не пора… Вот у судьи с его концовыми все сложится. Потому что точно он знает, какими они вырастут…
А какой прок в том, чтобы корчить из себя чего-то недоступное? Вон ― Карасев… Его жизнь и существованием не назовешь. Где он живет? В самом себе? Да и то, когда в голубятне сидит, среди помета и голубиных частушек. Очень большое счастье. Может, кто и хочет натюрморты в свинарнике писать, но точно не я… Карасев для меня теперь безвозвратно далек… Ему бы не впадать в эту его роль… А уж впал, так до конца юродствуй, пресмыкайся… А он и пьет и не пьет… Налить бы ему литра четыре пива да дать с дамской грудью порепетировать… Куда лучше голубятни… Но, видимо таким уж он был когда-то задуман… И чего он на Эмму напал? Чего сбежал?..
Как интересно действует водка… Никак не могу опьянеть… Или наоборот ― уже опьянел и только представляется, что не могу. Надо второй стакан оглушить, посмотрим тогда… Что Светка скажет? Да что она скажет… Когда узнает, что меня ― начальником милиции целого города поставили… С такими деньгами и в Концовске можно не худо жить. И на питье мое глаза закрыть. А не захочет закрыть, ну так другие на меня откроют… В крайнем случае ― и без жён можно годик-другой. Я так понимаю, тут есть куда половую нужду справить… Эмма опять же расцвела…
В понедельник пойду на работу… Завтра не пойду, скажу, устал… Что они посмеют возразить? Начальнику-то милиции… Смешно, если Клюквин у меня будет в подчинении. А мог бы на моем месте оказаться, не будь дураком. Плакатову завтра позвоню, расскажу. Черт, я ж ему водку должен. А-а, обойдется, он после таких новостей и пить-то бросит, чтобы тоже куда-нибудь выбиться. Неудачники, сплошные неудачники вокруг… Так и будут бегать с одного берега на другой, чтобы условия на рубль побогаче… А мне тут и убиваться не надо: и квартиру дадут, и работать не заставят… Сдались мне эти новые люди, спасение страны… Это судейские игрушки. Возомнил, дурак, себя каким-то императором, пусть сам и разгребает, ха! А мое дело простое будет: выпить, забыться и уснуть. И никаких больше мыслей».
Заметив пустующий стакан Зарубина, официант подошел и хотел налить.
― Ты мне рюмку верни, ― сказал Зарубин грубовато, ― что я, по-твоему, так и буду стаканами глушить? И дай икорницу, хлеб. Сто лет ничего не ел: аппетиты вон ― с нее размером.
Зарубин показал вилкой на Эмму Дмитриевну, понимая, что она его слышит.
Глава 9. Возвращается туда, откуда явился
Целое лето и кусок осени писал я про Егора Зарубина.
Повесть двигалась не легко, и моментами казалась мне самым мрачным из того, что я когда-то писал. Бывали дни, когда и полторы строчки выудить из себя не удавалось.
За это время издатель успел отказаться от второго моего романа и стало ясно, что мне снова предстоят мучительные поиски. Так всегда и получается: напишешь, полюбишь, а потом приходится возненавидеть. И сидеть над так называемой рукописью, мечтая о каком-нибудь детдоме для неизданных произведений. Подкинул ― и пусть заботятся, издают…
А что же Зарубин? Мы встретились в непростое для него время: он все пытался что-то думать и очень обрадовался, когда эта необходимость отцвела. И пришлось ему вернуться туда, где было уютнее всего ― в старые записки: короткие и необременительные. К тому же там за ним везде ходил помощник: ветреный мальчишка, каким и сам Зарубин много лет назад попал в милицию. Молодость и опыт действовали сообща, и писать об этом было легко и весело. О предназначении своем Зарубин тогда не думал и жил как многие…
Жаль иногда, что нужно покидать обстоятельства, где был счастлив. Вот и сейчас, несмотря на весь мрак повести, я с большим удовольствием повстречал Егора Зарубина. Увидимся ли мы опять ― не представляю. Кто знает, о чем мы с ним задумаемся завтра или через десять лет. И хотя я его автор, а Зарубин лишь персонаж, есть вероятность, что новую встречу устроит именно он….