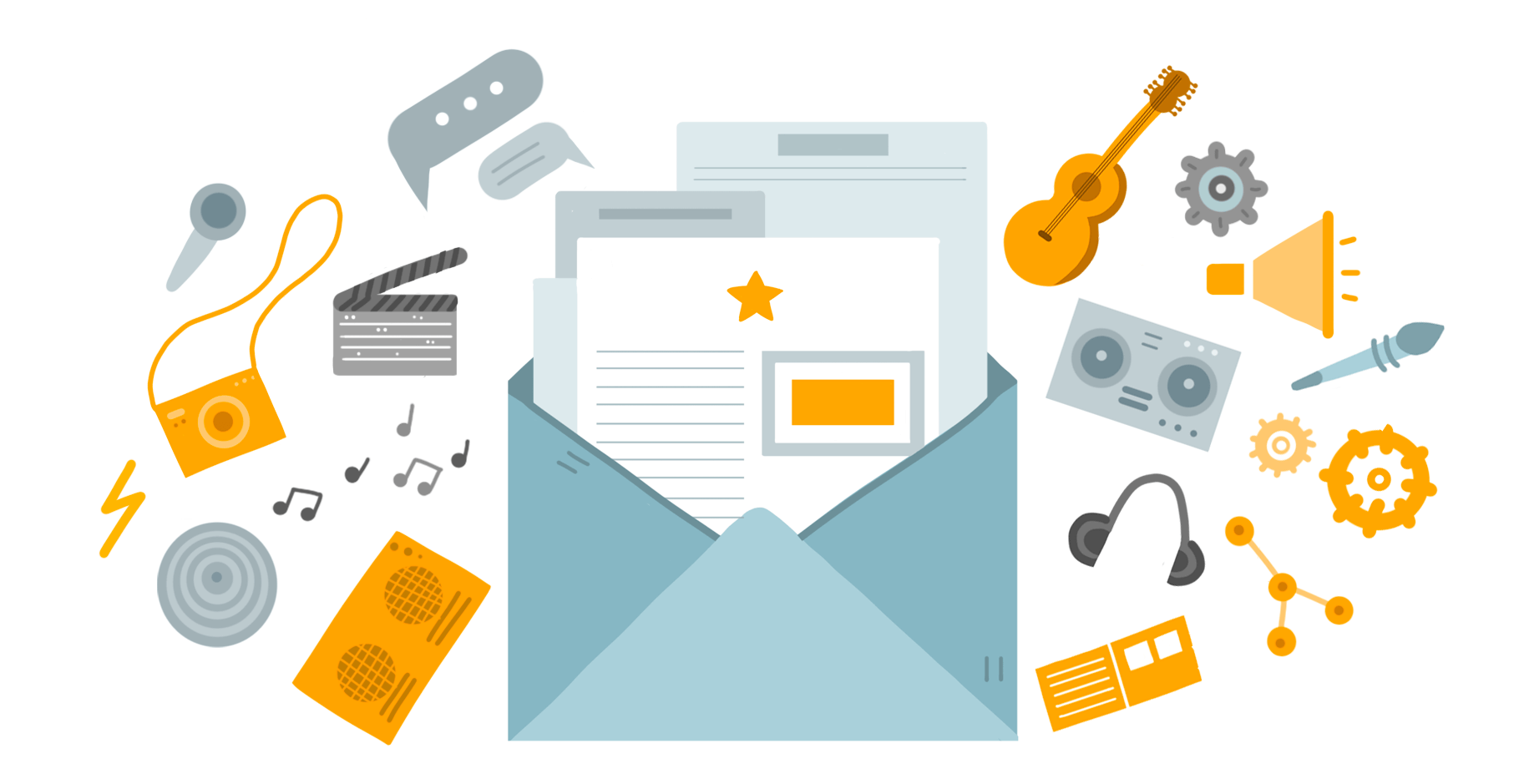Магнитик

«А правда, что ваш сын — релокант?» / Иллюстрация: sumi_raky
«Ты вот переехал, а новую жизнь начать не можешь. На чемоданах сидишь третий год. К маме ездишь. Зачем ездишь?». Вроде бы уехали, а тянет, тянет туда как магнитом… Будничная и трагичная история русских эмигрантов нового времени, зависших между двумя мирами, Европой и родной Москвой — в рассказе Павла Миронова «Магнитик».
1.
— Я не для того в Европу переезжала, чтобы все отпускные на Москву тратить!
Маша злилась. Точнее, была в бешенстве. Она говорила по-русски, громко, по дурной эмигрантской привычке не стесняясь таксиста-немца. Точнее, турка. Они с Мякишевым начали ругаться еще вчера, допивая прощальное вино, продолжили с утра за швырянием мятой одежды в чемоданы, прервались на дневной Виталиков сон и купание и вот теперь продолжили на пути в мюнхенский аэропорт.
— Не психуй и не кричи, — говорил ей Мякишев придушенным от злобы голосом. — Я что, не могу мать навестить? Раз в полгода. Сама постоянно ноешь, что тебя никто не разгружает, что Виталик достал, орешь на него постоянно… Вот и отдохнешь, нет?
— Не отдохну! И нет, не можешь ты раз в полгода мать свою навещать, если уж взялся семью обеспечивать. Семьдесят тысяч туда, семьдесят обратно, два раза в год…
Одной рукой Маша придерживала маленького Виталика, а другой показывала Мякишеву, сколько денег уходит на московские поездки. Они сидели на заднем сидении такси, как гипсовые слоники на каминной полке — по росту: высокий и толстый Мякишев, коротенькая и худая Маша посредине и, наконец, четырехлетний Виталик в своем креслице.
— Симаков твой уже в Лиссабоне и Вене побывал, Штольц в Рио собирается на майские, а ты куда съездил за три года? В Берлин раз и в Москву — семь.
— Вообще шесть.
— Да какая разница! Было семь — станет восемь-девять-десять. И потом, — Маша сунула Виталику соску и посмотрела на Мякишева так, будто прикидывала, нужна ли соска и ему, — дашь ты мне отдохнуть, как же. Весь месяц будешь ныть, как тебя мама твоя достала, как в Москве все плохо, и скорее бы обратно. Зачем, ну вот скажи, зачем мы туда едем?
2.
— Зачем они едут, ты мне скажи?
Валентина Васильевна шла по рынку, как ледокол по заросшей полынье, раздвигая рыхлую утреннюю толкучку. За ней ехала на буксире сумка на колесиках и шел щуплый муж Гена в затасканной кожаной курточке и плоской шерстяной кепке. Валентина Васильевна говорила громко, не оборачиваясь, будто кроме них с Геной на осеннем изобильном рынке никого не было. Рынок разместился в ограде давно распущенного монастыря. Под кирпичными стенами и чумазыми монастырскими башенками пахло соленьями, цветами, арбузными корками и тандырными лепешками.
— Ну как «зачем», Валь, — говорил Гена, поглядывая то на черемшу, то на соленую капустку, то на орехи, то на вывеску «Коньяки Армении» в бывшей монастырской башенке. — Сын родной едет, а ты «зачем». Сама ж скучала, нет?
Валентина Васильевна неприязненно поддернула сумку на колесиках и устремилась к овощным рядам.
— Скучала — не скучала, это мое дело, Геннадий. У него сын. И жена. Он должен быть ответственнее. Не скакать туда сюда, с пятого на десятое… Эти огурчики почем у вас? Девяносто? Дорого. Семьдесят дам, восемьдесят не дам… Хорошо, два кило. Геннадий, подай пакет. Так вот, я говорю, раз уж решил жить в своей Европе, пусть живет. Вот тоже мотается…
Упругие огурцы сыпались в пакет, потом ложились на дно сумки, и колесики катились дальше. Вскоре к огурцам добавились помидоры, красный лук, два граната, кукуруза, ароматный рижский хлеб, килограмм креветок, килограмм говядины, четыре перепелки, комок жирного творога и много другой всякой праздничной всячины. Валентина Васильевна покупала и жаловалась, а Гена тащил провиант и утешал.
— Ну чего ты, Валь. Внука повидаешь, плохо что ли? Вы, главное, сразу про политику не начинайте и нормально будет.
— Геннадий, ты бога-то побойся! Ты о какой политике?
— Ну это вот все, про Европу, про войну, границы там эти…
— Это не политика, Геннадий, это жизнь! И знаешь, мне эти претензии непонятны. Он едет ко мне, так пусть изволит меня слушать. Я его не тяну сюда. И ничего ему доказывать не собираюсь. Мне все давно уже понятно было, когда он уехал. Взрослое решение. И на здоровье. Уехал и уехал.
Сумка заполнилась и стала тяжелой. Валентина Васильевна остановилась, чтобы отдышаться. Она расстегнула свое серое плотное пальто, похожее на шинель, и стала обмахиваться пучком петрушки, пока Гена утрамбовывал провизию и ходил к бочке за квасом. Когда он вернулся, Валентина Васильевна продолжила.
— Я говорю — уехали и уехал. Но так и сидел бы там, раз решился, а если тянет домой — так пусть тогда поскромнее будет… Нет, я ничего такого, зачем мне это? Это он всякий раз как приедет, начинает нос воротить. Увидишь еще! У них там пропаганда знаешь, как работает? Вот вчера по телевизору показали, там детям прямо в школе… Пошли что ли? Только сумку возьми! Так вот, там такие фильмы у них…
Геннадий забрал у Валентины Васильевны сумку, которая стала уж чересчур тяжелой, и они пошли вдвоем к рыночным воротам, а оттуда — на метро и домой, готовить завтрашний праздничный обед.
3.
В аэропортовском магазине Мякишев купил себе и жене фляжку рома, плюшевого динозаврика Виталику и магнитик в виде замка Нойшванштайн. Сначала он хотел купить другой, с кусочком настоящей берлинской стены, невесть как оказавшийся в Мюнхене, но тот был каким-то неказистым, напоминал брикетик каменной жвачки. А все остальные мюнхенские — с медведями, пивными кружечками, брецелями и альпийскими горками — он уже привозил. Вот Нойшванштайна еще не было. Маша смотрела, как кассирша, переодетая в стюардессу, пропикивает магнитик, и ворчала.
— Десять евро! Да они офигели? Лучше бы ты ей колбасы привез, честное слово. Или «Милку» большую… — Она потрясла перед Мякишевым динозавриком. — Этот чудик восемь стоил!
— Мне маме динозавра ей купить?
— Для начала пусть хоть один повесит! Мы до переезда ей сколько этих магнитов привозили — Египет, Италия, Португалия… Привезем, прилепим на этот их «Минск», а в следующий раз — пустое место.
— Ну, она ж убирается, моет все. Перед нашим прилетом. Ну и снимает их.
— А когда улетаем, обратно вешает?
Мякишев не ответил. Он спрятал сдачу в левый нагрудный карман джинсовки, фляжку с ромом — в правый, а магнитик сунул в кармашек на Виталиковой коляске и покатил эту коляску к выходу на посадку.
Ром они выпили в детском уголке, вполглаза глядя, как Виталик ползает со своим динозавром в манеже. Там же ползали другие дети, со своими динозавриками, а их родители сидели на подоконниках, неудобных креслах и просто на полу, нахохлившись и уткнувшись в телефоны. У многих были бумажные стаканчики для кофе или чая. У Мякишева и Маши тоже были такие стаканчики. Разливая по ним ром, Мякишев шепнул жене, что наверняка у всех остальных в стаканчиках тоже выпивка. Маша прыснула. Она выпила и, кажется, слегка расслабилась.
— Ладно. Прости, — сказала она. — Прицепилась к магнитику. Примагнитилась. Купил и купил.
— Нормально. Нервы, деньги… Хочешь, в следующий раз в Испанию поедем?
— Не придуривайся, Мякиш. Знаю я твою Испанию. Сейчас май. Вернемся в июне — денег нет. Будем копить. Пока скопим — зима, Новый год. А куда на Новый год поехать? Правильно, к маме.
— Да чего ты опять…
— Да я ничего, ничего… Но ты вот мне скажи, чего ради мы в Германию переехали а?
— Я же говорю, опять пошло-поехало…
— Пошло, поехало, полетело, поплыло, и все вместе! Если б прямой рейс был до твоей Москвы ненаглядной, я бы, может, и ничего, но эта херота — через Турцию, с ночными пересадками — это какое-то, извини, садо-мазо…
— Ну чего ты, «садо-мазо», тебе сорок, что ли? Выцепила, блин, словечко.
Разлили остатки рома по стаканчикам. За широкими окнами начало потихоньку смеркаться. Низкие лохматые облака налились темно-серым, снежным и резво катились по небу. Весна в этом году была холодная, поздняя, даже в апреле с близких Альп залетала быстрая, призрачная пурга. Вот и сейчас, кажется, небо готово было обрушится снегом.
— Сказать, в чем проблема твоя? — Маша забрала у Мякишева его недопитый ром и прикончила его одним глотком.
— Тебе не много?
— В самолете просплюсь. Или в Стамбуле. Все равно ночь сидеть… Так про проблему тебе сказать?
— Ну, скажи.
— Ты вот переехал, а новую жизнь начать не можешь. На чемоданах сидишь третий год. К маме ездишь. Зачем ездишь? Погоди, не отвечай. Ты к ней ездишь, чтобы она тебе сказала: «Молодец, Сашенька, благославляю тебя на немецкую жизнь, учи язык, ищи новых друзей, о семье заботься, а в Россию к нам ездить не надо, у нас тут все хорошо будет, ты не переживай…» Вот твоя проблема.
— Ну, слушай, что за бред… Ну, ездим. Ну и ладно. Ты по дому будто не скучаешь.
— Лучше один раз перескучать и жить дальше. А ты ж не можешь отпустить, каждый вечер ей звонишь. Звонишь и собачишься: война, «гейропа», чего у вас там еще? Магнитики эти…
— С магнитиками-то что не так?
— Да ты сам как магнитик! Никак не отклеишься. Я тебе честно скажу… Эй, эй, Виталик! Виталик! Иди вытащи у него изо рта эту деревяшку! Не хватало нам еще заноз в языке…
И Маша, не договорив, убежала к манежу, спасать Виталика.
4.
В кухне было жарко. На всех четырех конфорках пыхтели и шкворачали сковородки. В раковине стояла кастрюлька, на дне которой под ледяной водой тихонько перекатывались вареные яйца. Груда мелко рубленого лука блестела на доске с подгнившим от сырости бочком. Под потолком плавал пар пополам с сигаретным дымом.
Валентина Васильевна курила тонкие «эссе», Гена курил самокрутки. Готовили креветочный салат. Гена отрывал креветкам головы, лущил панцири, а потом передавал ободранную креветку жене, которая ловко поддевала ногтем и вырывала у нее черную ниточку кишечника. Если не вынуть его, то на зубах будет хрустеть, неприятно.
На холодильнике разговаривал телевизор. Передавали новости. Под тревожную музыку диктор говорил: «Двенадцать разведывательных групп ВСУ были уничтожены в акватории Керченской бухты. Попытка прорыва…». Вера Васильевна качала головой и горько поджимала губы. «У-ух, гады», — сказала она, бросая креветку в хрустальную салатницу, — «Зла нет. Все прорываются, чего-то взрывают… Ну вот скажи, когда это все кончится, а?» Гена отбирал креветочную голову у кошки и делал вид, что не слышит. Тогда Валентина Васильевна раздавила сигарету в пепельнице и сказала громче:
— Слышишь, Геннадий, что говорят? То диверсанты эти, то беспилотник прилетит… Вот куда они едут, ты мне скажи? Сашка, в смысле, не диверсанты.
— Домой едут, куда ж еще, — Гена дочистил последнюю креветку и, поколебавшись, бросил ее тайком под стол, обиженной кошке.
— Нет у них дома никакого, — отрезала Валентина Васильевна. — Из одного уехали, а в другой не приехали. Мотаются туда сюда, по месяцу сидят, потом обратно… Сыну у них четвертый год, а он ни на русском, ни на немецком. Доездятся, что придется в спецшколу отдавать.
— Да нормально он говорит. По скайпу, помнишь? «Баба-деда, фатер-муттер…» Соображает все парень. Просто не болтает.
— Ну хорошо, если соображает. В отличие от папашки его. На вот, сыр потри.
В маленькой кухне сквозило. Ранняя московская гроза прокатилась по Текстильщикам и укатилась куда-то на север, а ветер и запах мокрого, еще не проросшего чахлой травкой газона, остались. Душистый этот ветер залетал в кухню через раскрытую по случаю готовки форточку. Проезжающие машины шуршали по мокрому асфальту.
По телевизору теперь передавали сюжет о выставке передовых технологий где-то в Йошкар-Оле. Валентина Васильевна резала вареные морковки вдоль и посматривала на детские затылки на фоне компьютерных экранов.
— Вот, — ткнула она ножом в сторону телевизора. — Все же есть. Что-то делают же, строят. Программисты нарасхват, бронь от армии, денег завались… Чего ему тут не сиделось-то, ты мне скажи?
Гена тер сыр и попыхивал самокруткой.
— Так он же еще до войны уехал. Ему тогда бронь не нужна была.
— До войны, после… Все равно, где родился — там и пригодился. И потом, я же вижу, вижу, Геннадий, что жизнь у них там — ну, так себе, ну, честное слово, ну, слушай… – Она в сердцах бросила ножик на доску и взялась за венчик для взбивания. – Худые, в каких-то обносках… Кому они там нужны? Так, люди второго сорта, гастарбайтеры. И главное — на месяц приезжает, чего тут месяц делать? Тырк-тырк, какие-то бары, друзья-товарищи… Внука, понятное дело, на нас спихнут…
— Ну, Валь, слушай, ну парню тридцать шесть лет, пусть сам решает насчет костюма. Может, он ему не нужен. Он вообще там из дома работает…
— Ну и работал бы тут! Чего, спрашивается… Меня в школе спрашивают: «А правда, что ваш сын — релокант?». Я вообще ему все скажу, как он приедет, чтобы знал…
Гена посмотрел на жену и, набравшись смелости, возразил.
— Валь, а может, не надо, а? Не ругайтесь вы в этот раз, честное слово. Мирно поживете и увидишь, угомонится. Может, и мотаться перестанет. Что называется, благослови, то-се, ну и отпусти. Он же чего сюда едет? Котлеток твоих поесть? Он же к тебе едет-то.
— Совесть не чиста, вот он и едет, — отрезала Валентина Васильевна. — Это сублимация называется. Родину предал, а у матери прощения вымаливает.
— Ну вот и почисти, почисти ты ему эту совесть. Прости, если есть что прощать-то. Ну и отпусти его.
Валентина Васильевна отвернулась от мужа, чтобы тот не видел ее глаз, и подошла к холодильнику. На его белом облупленном пузе по-генеральски выстроились шесть магнитиков, в два ряда по три, как на ордена на наградной планке. Были на нем пивные кружечки из янтарной пластмассы, тирольские шляпки, пряничные сердечки.
— А может, я не хочу отпускать? — сказала Валентина Васильевна телевизору и мужу. Она трубно высморкалась и принялась снимать с холодильника магнитики. Она бережно укладывала их в пустую жестянку из-под датского печенья и те так же деликатно, с едва слышным чмоканьем присасывались к пустому ее донцу.
5.
На земле еще лежала сизая ночь, клочья тумана ползли по ломтикам полей, а в небе синева уже была утренней, выцветшей и холодной. Солнце навылет пробивало салон «Боинга», и в нем плавали неспешные пылинки, будто в тихой утренней кухне. Мякишев стоял у последнего пустого ряда, облокотившись на незанятое кресло и ждал, когда освободится туалет. Он смотрел на эти кухонные пылинки, сонно смаргивал и заглядывал сквозь них, в глубину спящего самолета.
Вылетали в три, а перед этим сидели — шесть часов без малого — в какой-то турецкой кофейне, ругались, потом пили ром, рассказывали Виталику сказки, ходили по очереди курить, снова ругались, потом мирились и, наконец, полуживые и с кофейно-ромовыми головами погрузились в полупустой самолет и взлетели.
— Я тебя люблю, Мякиш, — сказала сонная и пьяная Маша, устраиваясь спать между Виталиком и мужем. — Хочешь в Москву кататься — будем кататься. Ты, главное, сам разберись, что тебе нужно. И куда тебе нужно. Время-то идет.
— Ладно. Я подумаю, — сказал Мякишев и обнял было Машу, но та уже натянула свою полетную подушку, непроницаемые очки и отрубилась. Виталик и не просыпался с той самой последней сказки, прослушанной с телефона в турецкой кофейне.
Двигатели внезапно затихли, и Мякишев очнулся. Включился динамик, и пилот сообщил, что они начали снижение. Кажется, его сонное пилотское бормотание никого не разбудило: кухонная пыль все так же лениво покачивалась в воздухе, солнце пробивало салон насквозь, а где-то внизу должна была вот-вот появиться Москва. Туалет был все еще занят.
Самолет лег на крыло и земля тоже наклонилась, заглянула в окна. Солнечные лучи исчезли, и земля предстала Мякишеву ночной, темной, еще вчерашней. Там поперек земли быстро двигалась полоска — новый день наступал на глазах, неотвратимо и радостно. Мякишев достал телефон, чтобы сфотографировать его, этот новый день, но тут посреди оставшейся ночи вспыхнула искра и стала разгораться все ярче и ярче, приближаясь к самолету. Мякишев успел сделать три фотографии, но так и не понял, что он снимает, а потом что-то ударило в самолет, и он взорвался.
6.
Посреди комнаты лежали три чемодана, а Валентина Васильевна и Гена сидели на диване и смотрели на них. Чемоданы были побиты, подавлены, будто на них топтались чьи-то тяжелые ноги. Пластмассовые их углы были вмяты и обскоблены, но замки уцелели, и ни один не был раскрыт. Белые наклейки с буквами IST стали зеленоватыми — обломки упали в поле. В этом поле ничего не сеяли, там просто выросла быстрая весенняя трава с сочными стеблями и их зеленый весенний сок испачкал наклейки. К чемоданам прислонилась сложенная детская коляска, целая и чистая, почти новенькая. Падение с восьми тысяч метров ей, по видимому, совсем не повредило.
Чемоданы лежали так уже четыре часа, и четыре часа Валентина Васильевна с мужем сидели, смотрели на чемоданы и молчали. «Поплакать хочешь?» — спросил не своим голосом Гена, и Валентина Васильевна не своим голосом сказала, что не хочет.
От чемоданов пахло скошенной травой и бензином. За окном густели сумерки. Где-то в кухне в сотый, наверное, раз загундел мобильник Валентины Васильевны. Трубка городского телефона была еще вчера сброшена с рогов и уже давно перестала гудеть. «Может, из больницы звонят», — сказал тихо Гена. — «Я схожу?» — «Из морга ты хотел сказать», — голос у Валентины Васильевны был как пемза. — «Сходи». И Гена вышел из комнаты.
В кухне было душно и пахло скисшей едой. Второй день на столе стоял нетронутый ужин. Кошка лакомилась креветками из хрустальной чаши и не обратила на Гену никакого внимания. Телефон гудел на полу — съехал по подоконнику. Наверное, долго звонили. Гена нажал на зеленую кнопку. «Алло? Валентина Васильевна? Знаем, какое у вас горе, с удовольствием поможем. Есть место на Николо-Архангельском и Перепечинском…». Гена сбросил звонок и выключил телефон. Рассеяно погладил кошку. Выудил из пузатой пепельницы окурок. В открытую форточку из кухни потех запах испорченной еды, а навстречу ему устремилась дождевая свежесть. Фонари мигали за потревоженными грозой ветвями.
Гена уже докуривал, когда в кухню вошла Валентина Васильевна. В руках у нее был маленький гипсовый магнитик с замком Нойшванштайн. Она подошла к холодильнику и аккуратно закрепила его на пустой белой дверце. Потом нагнулась и достала из ящика банку из-под датского печенья. Валентина Васильевна попыталась открыть ее, но не удержала и банка со страшным лязгом полетела на пол. Гена поднял ее, раскрыл и они вместе с женой принялись за дело.
Пока никто не предлагал правок к этому материалу. Возможно, это потому, что он всем хорош.